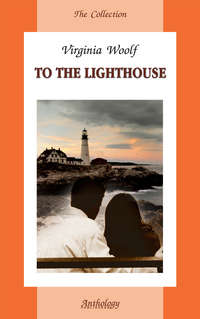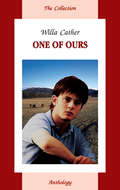«To the Lighthouse / На маяк» kitabından alıntılar, sayfa 3

Он подумал, что женщины - все такие; у них
безнадежный туман в голове; он всегда был не в состоянии это постичь; тем
не менее факт остается фактом.

Так красота здесь царила и тишина, и вместе они были образом красоты; форма, не разогретая жизнью; одинокая, как вечерний пруд, дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший гаснущий пруд, что хоть его и застигли, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне, среди обёрнутых кружек, затянутых кресел, и даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие, вечными своими вопросами «Вы увянете?», «Вы погибнете?» почти не тревожат покоя, равнодушия, вида чистейшей нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят и мимо ушей пропускают ответ: мы останемся.

Из него бы вышел великий философ, но он неудачно женился.

И опять она почувствовала себя беззащитной перед лицом старого неприятеля - жизни.

«Ломонос был неистово фиолетовым; стена – слепяще белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть – и куда что девалось»

..ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью, - гостиная; за гостиной - кухня; над кухней - спальни; и рядом - детские; чтоб все они ожили, наполнились жизнью.

Близилось лето, вытягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, ворошившим лужи, стали являться фантазии самого странного свойства - будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака на то и сходятся вместе, чтобы собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеракалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтания и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина, и женщина, и сама седая земля,..что верх одержит добро и СЧАСТЬЕ; победит порядок; и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу, далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла...отдохнуть посреди сутолоки и неразберихи человеческих отношений. Кто знает, кто мы? Что чувствуем? Кто знает, даже в минуту близости: так это знание и есть? И не портим ли мы,.. не портим ли все, вслух его называя? Не лучше ли так-то вот помолчать?..

Да какой же Бог мог сотворить этот мир? – спросила она себя. Умом она всегда понимала, что ни разума нет, ни порядка, ни справедливости; но страдания, смерть, бедняки. Нет такого предательства, такой низости, на какие этот мир неспособен, она убедилась. Счастье не вечно, она убедилась.

Слава Богу, подумала она, <...>, ей-то замуж не надо. Ей это унижение не грозит. Её эта пошлость минует.

В этот-то зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте.