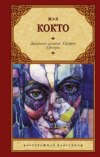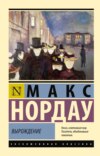Kitabı oku: «Слепец в Газе», sayfa 7
– Почему еще, ты думаешь, я вожу с ним дружбу? – процедил он, глядя на Брайана с явным раздражением. Фокс не ответил, и вопрос, словно бумеранг, вернулся к Энтони. Да, в самом деле, что связывает его с Джерри? Конечно же, ему не нравился этот человек; Джерри оскорблял и унижал Энтони, и у него не было ни малейшего сомнения, что Уотчет, не задумываясь, снова и снова будет оскорблять и унижать его по любому, самому пустяковому поводу или просто без повода – всего-навсего чтобы подшутить, ведь ему всегда доставляло удовольствие обливать других грязью, у Джерри был природный талант причинять людям боль. Так почему же, почему?
Энтони был вынужден признать, что причиной этих странных отношений был обыкновенный, ничем не разбавленный снобизм. Это была тайна, но тайна постыдная. Это абсурдно и смешно; но факт оставался фактом – ему приятно в обществе Джерри и его друзей. Быть в близких отношениях с этими аристократами и плутократами и в то же время сознавать, что превосходишь их умом, вкусом, суждениями, то есть всем тем, что действительно важно. Это сознание удовлетворяло тщеславие юного Энтони Бивиса.
Признавая его интеллектуальное превосходство, эти юные варвары ожидали, что он станет добровольно развлекать их в награду за восхищение. Он был с ними близок, но близок так же, как был близок Вольтер к Фридриху Великому, а Дидро к императрице Екатерине. Что поделаешь, придворного философа не всегда легко отличить от королевского шута.
С подлинным одобрением и в то же время покровительственно и с некоторым уничижением Джерри повторял после своего очередного выпада: «Слава профессору!» или: «Налить еще господину профессору!» – как будто Энтони был итальянским шарманщиком, за гроши вертящим свой немудреный инструмент.
Унижение, о котором вспоминал Энтони, уязвило его, как жало скорпиона. С внезапным остервенением он встал со стула и, нахмурясь, зашагал по комнате.
Сноб из среднего класса, которого терпят лишь потому, что он может забавлять публику. Сама мысль об этом была отвратительна, болезненна. «Почему я должен это терпеть? – не унимался он. – Почему я такой Богом проклятый дурак? Я пошлю Джерри записку, в которой напишу, что не смогу прийти». Но время шло, а записка оставалась ненаписанной. Ведь, в конце концов, думал он, в этом положении есть и некоторые преимущества, и удовлетворение. Вечер, проведенный с Джерри и его знакомыми, был забавным и поучительным. Забавным и поучительным не потому, что у них можно действительно поучиться чему-то полезному, нет, все они тупицы и безгранично невежественные люди. Heт, дело было в том, какими они представали перед ним, какими их сделали обстоятельства; в том, что благодаря своим деньгам и своему положению они могли пользоваться такой свободой, о которой Энтони приходилось лишь читать в книгах; в том, что многие обстоятельства, которые сильно стесняли его, практически не существовали для этих людей. Они, как бы между прочим, позволяли себе такие вещи, которые он мог воспринимать лишь теоретически, будучи не в состоянии соотнести их с источниками тщательно извращенной метафизики и искусно состряпанной мистической теологии. Только в силу социальных и экономических обстоятельств эти дикари находили естественным такое поведение, о каком Энтони не осмеливался думать даже после прочтения всего того, что Ницше говорил о сверхчеловеке или Казанова о женщинах. Им не приходилось читать Патанджали9 и Якоба Бёме10, чтобы оправдать свои пьяные оргии и распутство; они просто пили и баловались с девочками, словно резвились в Эдемском саду. Они смотрели на жизнь без смущения и страха, как Энтони, не скорбно, словно из-за невидимых, но прочных решеток. Они вели себя с простодушной надменностью тех, кто искренне считает, что Бог создал их для наслаждения, а сами они всегда будут окружены обожающими их друзьями.
Правда, у них были также убеждения, сковывающие их; иногда они, подобно бедняге Брайану, были готовы наложить на себя оковы самых строгих обетов. Но эти обеты, как и предубеждения, принадлежали их элитарному обществу, и поэтому, насколько Энтони это понимал, не требовали от юных аристократов никаких видимых усилий. Их пример освободил его от тех пут, которые наложило на него воспитание, но был бессилен связать его другими путами, в которых они проводили свою жизнь. Необходимость быть учтивым, парализующий страх перед общественным мнением, заученные фразы жеманных буржуа претили ему в их обществе, но когда Бимбо Эбинджер в негодовании не хотел и слушать предложение продать старый особняк жуткого вида, который съедал три четверти его дохода, когда Скруп грозился дойти до парламента, потому что в его семье старшие сыновья заседали в палате общин перед тем, как вступить в чин, Энтони чувствовал всего-навсего странное изумление первооткрывателя, рассматривающего предметы культа негритянского племени. Разумный человек не позволит обратить себя в религию мумбо-юмбо, но побыть немного туземцем он не откажется. Культ мумбо-юмбо состоит в соблюдении табу; становление туземцем означает свободу. Истинную свободу! Энтони усмехнулся про себя, и его добродушие и беспристрастность снова вернулись к нему. Сноб, да вдобавок плебейского рода. Это не вызывает сомнений. Но его снобизму было оправдание. И если эти молодые, но тупые щеголи решили смотреть на него как на своего первосортного шута, то с этим приходилось мириться, ибо такова была цена свободы. Общение с фабианцами не требовало платы; но как мало они сами могли ему дать! Социалистические доктрины могли до определенной степени обеспечить свободу разуму, но и то лишь в теории, а пример молодых варваров показывал образцы освобождения практического.
«Мне ужасно жаль, – писал он в письме Брайану, – но я внезапно вспомнил, что иду сегодня на званый ужин. («Званый» было одним из слов, особенно любимых его отцом, слово, которое сам Энтони ненавидел из-за его аффектации. Он лгал в письме, и это слово не случайно соскочило с его пера.) Увы (это тоже был излюбленный оборот отца), но я не смогу послушать твои высказывания о грехе! С удовольствием бы отделался от этого скучного вечера, но не знаю, как это сделать. Твой Э.».
Когда на стол подали фрукты, все были уже порядком подшофе. Джерри Уотчет рассказывал Скрупу о немецкой баронессе, которую он соблазнил на пароходе, когда путешествовал в Египет. У Эбинджера не оказалось слушателей, и он для себя одного декламировал лимерики: про юную леди из Вика, старика из Девиза, юнца Маккилана – целая энциклопедия знаменитостей страны. Тед и Вилли заспорили о том, как лучше всего подстрелить куропатку. Не имея собеседника, Энтони молчал. Разговор нарушил бы то состояние хрупкого счастья, в котором он пребывал. Последний стакан шампанского погрузил его в иное измерение, необычайно прекрасное, бесценное и неделимое. Яблоки и апельсины на серебряном подносе напоминали огромные рубины и хризолиты. В каждом из стоявших под свечами стаканов искрилось не вино, а огромные берилловые камни, желтые, твердые и прозрачные. Розы казались словно вытканными из глянцевого атласа, который обладал яркой и твердой выточенностью формы, характерной для стекла и металла. Даже звуки казались замершими и хрустальными. Юная леди Кью была для него равнозначна грандиозной нефритовой статуе, а яростная, но бесполезная дискуссия насчет куропатки походила на водопад зимой. «Le transparent glasier des vols qui n’ont pas fui»11, – подумал он с нарастающим чувством радости. Все было чрезвычайно ярким и кристальным, но в то же время каким-то дальним, необычайно потусторонним. Яркие из-за сумерек, вползающих в комнату с улицы, лица собравшихся виделись как нечто, что могло находиться по ту сторону стекла, в освещенном аквариуме. Энтони ощущал себя не только снаружи, но, что было сродни мистике, внутри. Смотря сквозь стекло на эти морские цветы и подводные самоцветы, он чувствовал себя рыбой, но рыбой гениальной, рыбой божественной крови. ICHTHUS – Jesos Christos theou hurios soter12. Его божественная рыбья душа витала там, в какой-то неизведанной стихии, и не переставая таращила стекловидные глаза, пронизающие все, но бессильные участвовать в том, что происходило. Даже руки его, лежавшие там, на столе перед ним, перестали в самом реальном из всех смыслов принадлежать ему. Из своей водяной твердыни он наблюдал за ними с тем же отчужденным и блаженным восхищением, которое чувствовал при виде фруктов и цветов, преобразившихся осколков застывшей жизни или лиц его друзей. Прелестные руки, созданные – о чудо! – для всевозможных дел: прицеливаться из двустволки в пролетающих птиц, ласкать бедро немецкой баронессы, одетой в трико, играть в воображаемые весы на настольном сукне и прочих. Очарованный, он следил за движением своих пальцев, плавно скользивших по гладкой поверхности ее кожи. Роскошные руки! Но не более чем часть его рыбьей души, заключенной в этом безвременном аквариуме, чем руки Эбинджера, чистящего банан, или руки Скрупа, подносящего зажженную спичку к сигарете. Я не есть мое тело, не есть мои ощущения, я не есть даже мой разум – я есть то, что я есть. Я есмь то, что есмь.
Священное слово «есмь» относится к Самому. Бог не ограничен временем. Ибо Единосущий живе вкупе со всем и превыше вещей тварна.
– Привет, профессор! – Кусок апельсиновой корки больно ударил его по щеке. Он встал и огляделся. – Черт возьми, о чем ты задумался? – Голос Джерри Уотчета звучал намеренно хрипло, что забавляло его, заставляя носить отвратительную маску. Аквариумная вода, по которой на мгновение пошла рябь, уже пришла в спокойное состояние. Снова став рыбой, божественной и космически блаженной, Энтони улыбнулся ему улыбкой, полной кротости и снисхождения.
– Я думал о Плотине11, – сказал он.
– Почему о Плотине?
– Почему о Плотине? Ну, дорогой мой сэр, не ясно ли это как день? Наука есть разум, а разум есть множественность. – Рыба обрела язык, красноречие хлынуло из аквариума беспрепятственным потоком. – Но если случится так, что человек почувствует себя немногочисленным, – о чем же еще думать, как не о Плотине? Если, конечно, ты не предпочитаешь Лже-Дионисия, Экхарта или святую Терезу. Полет одиночества к Одиночеству. Даже Фома Аквинский был вынужден признать, что ни один разум не может видеть Божественную сущность, если он не лишен пяти земных чувств в результате смерти или экстаза. Экстаза – заметь это хорошенько! Экстаз, однако, есть всего лишь экстаз, какая причина бы его ни вызвала – шампанское ли, косоглазие, или распятие, или занятие любовью – предпочтительно на пароходе, Джерри. Я первый, кто принял это – предпочтительно на пароходе. О чем говорят суровые волны? О восторге! Об экстазе! Громко выкрикивают это! Пока (заметь!), пока дыхание этого телесного остова или даже движение крови в жилах почти прекращено, душа наша погружается в сон и становится живой по мере того, как успокаивается глаз…
– Жил да был один парень из Бирмы, – внезапно задекламировал Эбинджер.
– Успокаивается, – повторил Энтони, на этот раз громче, – силой гармонии…
– Чья невеста работала в фирме…
– И глубокой силой счастья, – заорал Энтони, – мы проникаем…
– Он на брачной пирушке кушал шпанские мушки…
– Проникаем в сущность вещей. Сущность вещей, говорю я вам. Сущность вещей, и к черту всех фабианцев!
Энтони вернулся на квартиру примерно без четверти двенадцать ночи и был неприятно удивлен тем, что, войдя в гостиную, увидел человека, который при его появлении вскочил с кресла, словно чертик из табакерки.
– Боже, как ты меня напугал…
– Ну наконец-то! – сказал Марк Стейтс. На его резко очерченном лице было написано гневное нетерпение. – Жду битый час. – Затем презрительно буркнул: – Да ты, кажется, пьян?
– Как будто ты сам никогда не бывал пьян, – отозвался Энтони. – Помню, как…
– Был, был, – молвил Марк Стейтс, перебив его, – но это было на первом курсе. – На первом курсе, когда он почувствовал необходимость доказать, что он мужчина – самый мужественный, самый шумный и самый пьющий. – Сейчас у меня есть дела поважнее.
– Это ты так думаешь, – отозвался Энтони.
Марк посмотрел на часы.
– У меня не больше семи минут, – сказал он. – Ты достаточно трезв, чтобы слушать?
Энтони сел на стул с молчаливым достоинством. Приземистый, широкоплечий и крепкий, Марк навис над ним почти угрожающе.
– Разговор пойдет о Брайане.
– О Брайане? – Затем с понимающей улыбкой Энтони проговорил: – Это значит, что я должен поздравить тебя с вступлением на пост нашего президента?
– Идиот, – рассерженно выдавил Марк. – Думаешь, я принимаю такие подачки? Как только он снял свою кандидатуру, я тотчас снял свою.
– И тогда этот гнусный малявка Мамби вступит в должность?
– Какое мне дело до Мамби?
– Какое нам вообще дело друг до друга? – картинно провозгласил Энтони. – Совершенно никакого, и слава Богу. Абсолютно ника…
– Чего он добивался, оскорбляя меня так?
– Кто? Мамби?
– Да нет. Брайан, конечно же.
– Он считает, что всегда любезен с тобой.
– На фига мне сдалась его паршивая любезность? Почему он не может вести себя нормально?
– Его забавляет то, что он ведет себя как христианин.
– Вот ради Христа и скажи ему, чтобы он пробовал это на ком-нибудь другом. Я не любитель христианских шуток. В действительности нужен петух, с которым можно было бы подраться.
– Это как понять?
– Иначе ты не получишь должного удовольствия, забравшись на вершину навозной кучи. А Брайан хочет, чтобы мы сошлись, как два каплуна. И уж если речь зашла о навозных кучах, я полностью поддерживаю Брайана. Когда мы заговорим о курицах, я начну колебаться. – Марк снова взглянул на часы. – Мне пора идти. – У двери он обернулся. – Не забудь передать ему то, что я сказал тебе. Мне нравится Брайан, и я не хочу вступать с ним в спор. Но если он снова будет корчить из себя христианина и милосердную душу…
– Бедный мальчик навеки потеряет твое уважение, – заключил Энтони.
– Шут! – крикнул Стейтс и, захлопнув с грохотом дверь, побежал вниз по лестнице.
Предоставленный самому себе, Энтони взял пятый том «Исторического словаря» и принялся читать статью Бейля о Спинозе.
Глава 11
8 декабря 1926 г.
«Condar intra MEUM latus!13 Вот единственное наше убежище». Энтони извлек лист бумаги из пишущей машинки, положил его в стопку других листов, скрепил их и стал перечитывать написанное. Глава одиннадцатая его «Основ социологии» была посвящена индивидуальности и его концепции личности. Он провел целый день, делая предварительные, еще не окончательно созревшие наброски. «Cogito, ergo sum14, – прочел он. – А почему бы не сказать «Сасо, ergo sum15. Или «Eructo, ergo sum»16. Или, уж если без солипсизма, почему не «Futuo, ergo sumus»?17 Пошлые вопросы. И все же что такое личность?»
«Мак-Таггарт1 знает свою личность непосредственно, остальные знают ее по описаниям. Юм и Брэдли2 вообще не имели понятия о ней и не верили в ее существование. Все это обыкновенное расщепление, воображаемые волосы лысого мужчины. Какое значение имеет то обстоятельство, что «личность» – это не более чем расхожее слово с общепринятым смыслом?
Люди обсуждают мою «личность». О чем они при этом говорят? Не о homo cacans и не о homo eructans, и даже (пусть поверхностно) не о homo futuens. Нет, они беседуют о homo sentiens18 (невозможная латынь) и о homo cogitans. И когда я публично говорю о «себе», мне приходится иметь в виду именно этих двух homines19. Моя «личность» согласно молчаливому договору суть мои мысли и чувства, точнее, то, что я доверяю своим мыслям и чувствам. Caco, eructo, futuo – я никогда не признаюсь, что первое лицо единственное число этих глаголов – это в действительности я. Только тогда, когда по той или иной причине они ощутимо задевают мои чувства и мысли, процессы, которые они представляют, начинают происходить в рамках моей «личности». (Эта цензура превратила в полную бессмыслицу всю литературу. Пьесы и романы просто не соответствуют истине.)
Таким образом, «личное» всегда заслуживает доверия или потенциального доверия; но такого отношения никогда не заслуживают вещи морально недифференцированные.
Личностные процессы требуют определенного времени. Слишком краткий опыт менее личностен, нежели опыт недостойный либо просто растительный. Такие опыты становятся личностными лишь тогда, когда они сопровождаются чувствами и мыслями или когда будят значимые воспоминания.
Материя, как показывает аналитический опыт, состоит из пустого пространства и электрических зарядов. Возьмем для примера женщину и умывальник. Эти тела различны по своей природе. Но составляющие их электрические заряды практически тождественны друг другу. Однако сложенные вместе электрические заряды, составляющие женщину, и заряды, составляющие умывальник, начинают проявлять совершенно различные свойства. Изменения количества, если они достаточно велики, вызывают изменения качественные. Теперь допустим, что человеческий опыт подобен материи. Подвергнем его анализу, и мы убедимся в существовании психологических атомов. Множество этих атомов составляют тотальный опыт, а выборки атомов из нормального опыта составляют то, что мы называем личностью. Каждый индивидуальный атом нисколько не напоминает нормальный опыт и еще менее напоминает личность. И, обратно, каждый индивидуальный атом напоминает соответствующий атом другого человека. Если рассматривать тело женщины в микроскоп, то его будет невозможно отличить от умывальника, а опыт Наполеона станет тождественным опыту Веллингтона3. Собственно говоря, почему мы воображаем, что существует твердая материя? Только по причине грубости наших органов чувств. Почему мы воображаем, что имеем связный опыт и некую цельную личность? Из-за того, что наш мозг работает чрезвычайно медленно и имеет весьма ограниченные способности к анализу. Наш мир и мы, кто в нем живет, суть порождения глупости и плохого зрения.
Впрочем, совсем недавно наступило некоторое улучшение способности мыслить и видеть. Мы получили в свое распоряжение правила, согласно которым можно расщепить материю на весьма малые частицы, и математический аппарат, позволяющий размышлять о свойствах еще более мелких частиц.
Психологи не располагают новыми инструментами, но лишь новой техникой мышления. Все их изобретения – чисто ментальны – техника анализа и наблюдений, рабочие гипотезы. Благодаря романистам и профессиональным психологам мы теперь можем рассматривать наш опыт как в понятиях атомов и мгновений, так и в понятиях звездных скоплений и часов. В прошлом сносным психологом мог быть только человек, отмеченный печатью гения. Сравните психологию Чосера с психологией Гауэра4, не говоря уже о Боккаччо. Поставьте рядом Шекспира и Бена Джонсона5. Различие не только в качестве, но и в количестве. Гении эпох знали больше, чем их просто интеллигентные современники.
К настоящему времени накопился большой и громоздкий багаж знаний, методов и рабочих гипотез. Эрудиция простого современного интеллигента огромна – гораздо больше, чем у необразованного гения, полагающегося только на интуицию.
Мешало ли Гауэру или Джонсону их невежество? Нисколько. Их невежество соответствовало среднему уровню образованности того времени. Немногие монстры интуиции могли знать больше, чем они, но большинство знало гораздо меньше. Отступление здесь, как говорят социологи, более важно, чем сама тема. Приходят и уходят моды на разные типы личности. Моды, варьирующие со временем, как моды на кринолины или юбки-бочонки. Моды меняются в зависимости от местности – носят же набедренные повязки на Золотом Берегу и фраки на Ломбард-стрит6. В первобытном обществе каждый носил ту личину, которую хотел. Тем не менее каждое общество имеет свой духовный облик. Идеалом личности у краснокожих индейцев на северо-западном тихоокеанском побережье был слегка сумасшедший вояка, сражающийся со своими конкурентами за племенное имущество и власть. У индейцев долин идеальным считался эгоист, борющийся с другими из-за жажды свершения воинского подвига. У латиноамериканских пуэбло7 идеалом был не вояка-эгоист и не явный разрушитель или сорвиголова, а сильный лидер с поистине неукротимой энергией, стоящей ему невероятных усилий, и знаток всех ритуалов, оккультных жестов и правил, внешне выглядящий как любой другой член племени.
Европейские общества крупны и разнородны расово, экономически и профессионально, поэтому трудно насадить определенную систему взглядов всем, и в них успешно сосуществуют несколько личностных идеалов. (Заметьте, что фашисты и коммунисты пытаются утвердить один канонический идеал. Другими словами, они пытаются заставить высокоиндустриализированных европейцев вести себя как нивхи или эскимосы. Попытка в конечном итоге обречена на провал, но пока и те и другие с огромным удовольствием расправляются с инакомыслящими!)
Какой же моде принадлежит главенство в нашем мире? Есть, конечно, обычные клерикальные и коммерческие моды, созданные, словно на заказ, уличными портняжками. Но есть и la haute couture20. Ravissante personnalité d’intérier de chez proust. Maison Nietzsche at Kipling: personnalité de sport. Personalité de nuit, creation de Lawrence. Personnalité de bain, par Joyce21. Возьмите на заметку интересный факт, что физически сильная личность – единственное из этого перечня, что может считаться личностью в привычном смысле этого слова. Остальные в большой или малой степени обезличены, поскольку являются раздробленными. Это вновь возвращает нас к Шекспиру и Бену Джонсону. Прагматик с уверенностью скажет, что психология Джонсона вернее, чем психология Шекспира. Большинство из его современников воспринимали себя и воспринимались как Нравы. Шекспиру понадобилось многое, чтобы определить черты каждого Нрава, скрытые маской условностей. Шекспир остался в одиноком меньшинстве, если не считать Монтеня. «Нравы» Джонсона работали, а сложная, многообразная система Шекспира нет.
В сказке про голого короля невидимую наготу обнаруживает ребенок. С приходом Шекспира все стало наоборот. Его современники считали, что он лишь обнажил Нравы; он увидел, что они располагали целым гардеробом маскарадных костюмов.
К примеру, Гамлет. Он жил в мире, главным психологом которого был Полоний. Если бы он знал столь же мало, сколько Полоний, он был бы счастлив. Но он знал слишком много, и в этом его трагедия. Прочтите еще раз ту притчу о флейтах. Полоний и ему подобные сочли аксиоматичным то, что этот человек был не более чем грошовая дудочка с шестью-семью отверстиями. Гамлет же знал, что по крайней мере по силе своего духа он был целым симфоническим оркестром.
Безумная Офелия проговорилась: «Мы знаем, кто мы есть и кем мы можем стать». Полоний прекрасно осознает, что представляет собой он и все другие, но лишь в рамках общепринятых норм. Гамлет знает и это, и то, кем такие могут стать – за пределами масок и характеров.
Быть единственным в своем поколении: кто знает, кем могут быть люди и кем они в действительности являются! У Шекспира в жизни должно было быть много неприятных эпизодов.
Блейку было уготовано подвести рациональную основу под психологический атомизм и сделать его философской системой. Человек, согласно ему (и впоследствии согласно Прусту и Лоренсу), – простое чередование различных состояний. Добро и зло присущи состояниям человеческой души, а не самим душам, которые в действительности не существуют, кроме как там, где можно говорить о состоянии. Это представляет собой смерть человека как личности в самом древнем смысле этого слова. Кстати говоря, не есть ли это (что лежит, пожалуй, за пределами социологии) рождение нового типа личности? Цельной личности, не выхолощенной и не подверженной селекции, не подчиненного догмам человека, не живущего, если перефразировать известное изречение, в канализационной трубе Weltanschauung22, словом, человека, являющегося тем, кем он может на самом деле быть. Такой человек есть противоположность любому из образов идеального христианина нашей истории. И все же в определенном смысле он представляет собой воплощение той идеальной личности, пример которой есть евангельский Иисус. Воплощенное духовное совершенство, цельный, неприукрашенный, не моралистического склада homo характеризуется, во‑первых, тем, что делает то, что говорит, не подвержен общему стереотипу и неподкупен, не тешит себя гордыней и не пыжится, чтобы казаться лучше других, во‑вторых, скромен и не имеет чрезмерного самомнения благодаря своему нежеланию возноситься превыше человеческой природы, в‑третьих, беден духовно, не выпячивает свое Я и не желает ничего ни от кого, довольствуясь тем, что есть; если это человек пожилого возраста, то ему скорее свойственна незамысловатость умственного склада, и, в‑четвертых, он должен обладать детской непредвзятостью, полагаться на первичность опыта, а не познания, ради самого опыта никогда не откладывает мысль на завтра и готов предоставлять мертвым самим погребать своих мертвецов; в‑пятых, не лицемер и не лжец, поскольку нет точной модели, указывающей, кем должна притворяться личность.
Встает вопрос: существовал ли когда-либо такой человек? В году m человек чувствовал x в условиях z. В году n он испытывает то же самое чувство x в условиях р. X – главное чувство, жизненно важное для личности, но оно испытывается тогда, когда происходят изменения в моде. «Лучше смерть, чем бесчестье». Но честь подобна женской юбке – ее носят короткой, длинной, свободной, узкой, приталенной или со складками, носят в виде сарафана или без нижнего белья. До 1750 года считалось, что человек способен чувствовать, и он чувствовал себя смертельно оскорбленным, если видел, как незнакомец обольстительно щиплет его сестру. Настолько сильным было наше возмущение, что хотелось взять и придушить его. Сегодня честь наша не имеет ничего общего с женской плотью и имеет все везде. И так продолжается, несмотря ни на что.
Так что же представляет собой личность? Или она ничего собой не представляет?
Она не есть весь наш опыт. Не есть и психологическая монада или момент. Не сводится она к сенсорной активности или растительной жизни. Она есть опыт, созданный пространством и временем. Она есть чувство и мысль. Кто же делает этот выбор из целого опыта и на каком основании? Иногда это делаем мы – кто бы мы ни были. Но подчас он делается за нас стихийной волей народа или общественного класса. В серьезной степени личность не есть даже наша личная собственность.
Туманно, но этот факт еще требует осознания. В то же время все возрастающее и возрастающее количество народа извлекает пользу из современных средств, чтобы увидеть себя и других в определенном квадрате четырехмерной среды. Более того, имея рабочую гипотезу бессознательного, все растущее количество интеллектуалов знакомится с тайными поведенческими мотивами и осознает, насколько большую роль в их жизни играют постыдные биологические стороны опыта. С какими результатами? Старое понятие о личности уже мало куда годится. И не только понятие, но и сам факт. «Сильные личности», даже «яркие личности» встречаются все реже и реже. Фашисты нашли выход из положения и производят их намеренно путем образования. Образования, обедняющего человека, превращающего его в эскимоса, что влечет за собой подавление психологической науки и создание всех условий для невежества в данной области. Одиозная политика, но, я подозреваю, неизбежная и, используя термин социологии, корректная. Ибо наше психологическое чутье очень может принести вред обществу. Людям нужны простые джонсоновские нравы, а не бесформенный набор самосознающих состояний. Вот еще один пример пагубности глубокого знания и излишне бурного развития технической науки.
Кроме того, Гамлет все еще является светочем разума. Полоний в гораздо большей степени живой человек, чем он. В самом деле, личность Гамлета настолько таинственна, что критики извели тонны бумаги и литры чернил, чтобы выяснить, кем он был. Конечно же, Гамлет не был живым человеком, он не существовал вовсе, поскольку знал слишком много для смертного. Он догадывался о том, что обладает глобальным опытом, который накапливался с каждой секундой капля за каплей, не признавая никаких правил, которые бы определили его выбор в пользу одного набора узорчатых атомов, а не другого. Для себя и для окружающих он был просто серией последовательно сменяющих друг друга разнообразных состояний. Отсюда то смятение в Эльсиноре и в стане шекспировских критиков за минувшие три столетия. Честь, Религия, Предосторожность, Любовь, все обычные атрибуты, присущие нормальной личности, здесь были изглоданы рефлексией. Гамлет оказался своим собственным термитом – бесконечным самогрызением он превратил себя, отделенного от мира недосягаемой гордыней, в кучу опилок. Только одно помешало Полонию и всем остальным немедленно прояснить ситуацию: независимо от состояния психики физически Гамлет оставался здоровым, не разложившимся на атомы, предельно безвредным для чувств окружающих. И может быть, это в конце концов и стало настоящей причиной нашей веры в личность – физическая сила и высокая приспособляемость тел. И может быть, насколько актуальным ни было бы понятие о целостности личности, она есть всего лишь продукт физической выносливости. Какие волосы, какая стройная фигура! Я думаю, у мистера Джоунза прекрасный к-карактер! Когда я такое услышал в автобусе, идущем по Пятой авеню, я расхохотался. В то время как мне, наверное, надлежало слушать так, как если бы передо мной сидел Спиноза. Ибо что есть самое личное в человеке? Не его разум – его тело! Какие-нибудь Херст или Ротермер8 могут выпестовать мои чувства, заставить меня мыслить так, а не иначе. Но никакое количество информации, которую они на меня обрушат, не сделают мое пищеварение или обмен веществ в точности таким же, как у них. Я мыслю, следовательно, я существую. Но: caco, ergo sum.
Здесь, подозреваю я, кроется причина того настойчиво внимательного отношения к телу, проявившегося за последние годы. От бойскаутов до причудливых развратников и от Элизабет Арден до Д. Г. Лоренса, одного из самых сильных сокрушителей личности. В его книгах нет «характеров». Только одно тело, всегда и везде. Теперь тело обладает колоссальной ценностью. В то время как душа или ум, может быть, разорваны на куски – измолоты в опилки, как у Гамлета. Только самые глупые и бесчувственные в наши дни обладают самой сильной и утонченной душой. Только варвары среди нас «знают, что они есть». Люди культурные понимают, кем они могут стать, и не в состоянии в силу практических социальных причин постичь, кто они теперь. Они забыли, как можно стать человеком, исходя из своего общего монадного опыта. В трясине и хаосе этой неопределенности тело остается твердым, как верстовой столб.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.