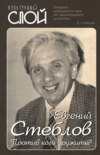Kitabı oku: «Приключения режиссера», sayfa 2
Эпигоны
Я человек незлобивый и очень щедрый, но часто, особенно в провинции, вижу, как используются мои мизансцены, мои режиссерские находки. Эпигонов появилось огромное количество. Но я никогда не связываюсь с судебными инстанциями, не пытаюсь собачиться, не лезу в политику, потому что считаю это бессмысленным. Раз появились эпигоны – это хороший знак того, что я интересен, что в чем-то состоялся. Был бы прецедент, а раму всегда найдут… Или не так: есть эпигоны – следовательно, я существую…
Ширвиндт
Александр Анатольевич Ширвиндт – мой учитель по Щукинскому училищу. К тому, что он сейчас иногда – мой ученик, он относится философски. Понимает, что ученики уже должны ему кое-что и отдавать. Кстати, хорошо бы и деньги тоже. Все всегда у него в училище берут в долг.
Однажды Ширвиндт позвонил мне после долгого перерыва, сообщил, что скоро отмечает юбилей и хочет получить в подарок спектакль вместо того, чтобы сидеть на сцене в кресле и принимать «венки от Мантулинской фабрики». Партнершей назвал Люсю Гурченко. Я сразу согласился, ведь это экзотический дуэт, который никогда не имел развития даже в кино. С ними безумно интересно было работать, поскольку эти изумительные актеры на сцене конкурируют, заводя друг друга. По-этому спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» по пьесе Эдварда Радзинского и выделялся из всего репертуара Театра Сатиры.
Конечно, у «папы Шуры», как я ласково называю Александра Анатольевича, были работы и более шумные. Но в этой роли номенклатурного хамелеона Михалева он сверкает черным бриллиантом, поскольку прекрасно знает «совок» изнутри. Этим спектаклем мы как бы попрощались с советской эпохой, с феноменом советского идиотизма. Критики часто вопят: зачем пошлость делать предметом исследования на сцене? Не понимают одного: это тоже история, это огромный пласт, входящий в архетип времени. Кстати, первым об этом заговорил, между прочим, Антон Павлович Чехов. Многие «попадаются» на маску Ширвиндта, не зная, что это гениальное перевоплощение, и приписывают актеру многое из его персонажей. Его капустникам могут позавидовать лучшие шоумены Бродвея. Правда, у нас ментальность другая, и в незапамятные, но всем особо памятные времена, скорее посадили бы, чем выписали премиальный гонорар.
Развлекать публику – тяжелейшая мучительная работа. Все наши лицедеи от Бога, и Ширвиндт тоже, заслуженно обласканы и знамениты. Он незаменим, и его цитируют – от президента до последнего забулдыги. Ему подражают. То вдруг все начинают курить трубку, то ловить рыбу, то острить, томно прикрывая глаза, то вдруг материться с легким французским шармом.
Ширвиндт – это явление, он делает все очень искренне, а эпигоны достаточно беспомощны. Вы заметили, как мало пародий на самого Ширвиндта, как трудно его показать? В Щукинском училище в разделе «наблюдения» на втором курсе я ввел бы специальный этюд для характерных актеров («герои» все равно не смогут) – показать профессора кафедры актерского мастерства, народного артиста России Ширвиндта.
Правда, на это мое ноу-хау однажды обиделся ректор, народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш, показать которого намного легче, чем и пользуются оголтелые студенты. Хорошо, тогда можно было бы сделать один этюд обязательным, другой – произвольным…
Ну а если серьезно, никто не знает, какие у народного любимца бывают депрессии, или как он неимоверно дергается перед каждой премьерой, или как у такого опытного Мастера чуть подрагивают руки перед каждым спектаклем. Однажды вообще прорвалось поразившее меня: «Везет тебе, Андрюшка… Ты выскочил. Выскочил в режиссуру. А вот я до седых волос буду клоуном!..» Кстати, тут он, конечно, кокетничает. Волосы у него прекрасные – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить…
Шаров
Над спектаклями я работаю не с театральным художником, а с одним из известных авангардных дизайнеров Андреем Шаровым. Мне всегда везло на художников. Первый свой спектакль на профессиональной сцене – «Снег. Недалеко от тюрьмы» в Ермоловском театре – я делал с Володей Шпитальником. Он теперь в Америке, преуспевает, даже на Бродвее работает, дом у него на берегу океана… Я у него бываю каждый год, грустим, конечно. После этого со мной долгое время работал Андрис Фрейбергс, латыш, замечательный сценограф, но сейчас он тоже зарубежный художник. А теперь у меня есть Андрюша Шаров. Концепции Андрея настолько театральны по своей сути, что я просто не понимаю, почему ему никто до меня не предложил оформлять спектакли. В его костюмах всегда присутствует элемент игры. Эта одежда эпатирует зрителя, провоцирует на новое восприятие определенных вещей, скажем, иначе оценивать понятие вкуса. Она притягивает внимание публики на показах, от нее невозможно оторвать глаз. Я же мечтаю, чтобы во время моих спектаклей зритель не только не спал, но даже не успевал откинуться на спинку кресла и отдохнуть, полистав программку. По-моему, костюмы и сценография Андрея помогают актерам удерживать внимание зала.
Но с недавнего времени я стал замечать, что он все активнее вмешивается в мой имидж. Конечно, я советуюсь с Андреем, который не то чтобы мой стилист, но позволяет какие-то фрагменты моего облика корректировать. Недавно он к моим черным ботинкам пришил красные ушки. Я долго думал: зачем? Теперь, выходя на поклон после спектакля, замечаю, что многие зрители обращают на это внимание. Красные ушки, как два маячка, притягивают внимание, а поскольку режиссер – профессия публичная, я вынужден соответствовать. Была история, когда Шаров сшил мне смокинг, потому что все магазинные оказались не по фигуре. Он придумал очень странный вариант – полусмокинг-полуфренч – и сказал, что такое будут носить минимум три года. Гениально, потому что модель действительно продержалась три года, а потом он мне отпорол воротник, пристрочил пару клапанов, и я выглядел стильно еще три года. Представляете, какая экономия!..
Впервые я услышал о Шарове, когда заинтересовался, кто сделал костюмы к «Лолите» Романа Виктюка. Наша первая с ним работа – «Внезапно прошлым летом» Теннесси Уильямса в филиале Театра Моссовета, где пространство было весьма необычным. Я сподвиг Андрюшу сделать не только костюмы, но и сценографию. До этого он сотрудничал с Виктюком и Виноградовым, но сценографию раньше не делал. А его костюмы были настолько стильными, что жаль было их угробить ужасным оформлением. Красные и белые наряды, игра фактур кожи и шерсти могли пропасть.
По сюжету действие происходило в экзотическом саду, где герой, поэт Себастьян, выращивал хищные растения.
Шаров меня тогда поразил, и я понял, что буду работать с ним дальше. С тех пор сотрудничество абсолютно безусловное: «два Андрея» – так и ходит по Москве. Шаров сделал весь сад из расплавленного черного полиэтилена, расплавив газовой горелкой всю красоту. Но черное на черном превосходно заиграло. Надо знать Шарова: он подсветил ярким синим, красным, ядовито-зеленым разные фактуры, и сад стал фантастическим. Образ был найден. Понятно, что в современном театре сценография – прежде всего мысленный образ. Платят за потрясающую сценографическую идею…
Андрей мне симпатичен, потому что не испорчен театральной традицией. Он неофит в театре, не ориентируется в интригах, в отличие от режиссера, которому приходится много дипломатично лавировать. С другой стороны, не обремененный грузом традиций, он генерирует разнообразные идеи, на первый взгляд невоплотимые.
Например, когда мы показывали Валентину Плучеку макет к бенефису Александра Ширвиндта «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» Радзинского, где предстояло играть Гурченко, Державину, Яковлевой, мэтр молчал минут сорок. Мы открыли сцену с ядовито-зеленой синтетической травой и красными пятнами костюмов, красным джипом «чероки». «И это все? – наконец спросил Плучек. – А как же машина будет ездить?»
Мне безумно нравится, что сначала рождается смелая идея, а потом уже соображаешь, как это осуществить. Лень Ширвиндта, которому в лом было мыть собственную машину, сыграла нам на руку, и его частный джип стал «играть» в спектакле. (Монтировщики все время вынуждены были натирать до блеска джип «папы Шуры».)
Мне нравится, что Шарову можно бросить любую сумасшедшую идею. Она попадает на хорошую почву. Андрей бережно относится к тому, что мне иногда грезится: военный дирижабль, например. Шаров мучается ночь, думая, как он сядет, как сделать подмену актеров, где, на каком военном заводе взять резину. Но мы бы давно сошли с ума, если бы двигались только таким путем, путем моих фантомов. В «Бедном Марате» Арбузова (сцена Театра Моссовета) пригрезилось, наоборот, Шарову. Он точно понял, что нельзя ставить эту пьесу в бытовом аспекте. Чтобы собрать все в единую эстетику, мы убрали грязь и мрак войны и блокады, решили пойти «от противного»…
Однажды я рассказал ему сон: на пепелище прекрасного поместья выпал снег и заштриховал белым всю разрушенную красоту. Андрюша перенес это на весь спектакль: не только мебель была белоснежная, но и костюмы, посуда. На 9 мая, в 50-летие Победы, пришли ветераны и замечательно приняли спектакль: каждый из них заштриховал белый цвет своими воспоминаниями.
Он угадал идею путешествия в прошлое, и на этом фоне играть чистую историю любви троих героев было совсем легко.
В пьесе «Он пришел» Пристли Андрей сознательно преувеличил масштабы старинного английского дома, и оказалось, что это зримая метафора несоответствия роскоши обстановки мелким и корыстолюбивым персонажам. Одно из лучших качеств Шарова – в том, что он делает красивые вещи, прелестные по сути и по догадке, но недорогие. Действительно, в театре платят за идею.
Мы начали с ним с Теннесси Уильямса и теперь завершили первый уильямсовский круг «Старым кварталом» в «Табакерке». «Милого друга» Мопассана сделали на большой сцене Театра Моссовета. Андрей в театре отдыхает от своего авангардизма на подиуме, хотя все равно остается Шаровым, выбирая странные фактуры: например, кожаную жилетку для инспектора Гуля Георгия Жженова или белую кожаную тройку для Александра Домогарова в пьесе «Он пришел». Конечно, не было белых гимнастерок и сапог в военное время («Мой бедный Марат»). Но это стало новой реальностью метафорического порядка. Шаров добивается фантастического эффекта, оставаясь авангардистом, хотя от его заклепок и булавок можно иногда сойти с ума.
В мире моды меня привлекает момент театральной непредсказуемости, особенно обожаю накладки. Чисто профессионально я люблю наблюдать мир моделей и рад, что Шаров меня туда втянул. Это свой мир – театр, но другого рода. У него сейчас появился новый проект совмещения дефиле с цирком, он работает над цирковыми программами, которые будут строиться по законам дефиле. Этого никто раньше не делал. Андрей зовет меня подключаться, так что не удивляйтесь, если я стану цирковым режиссером…
Шаров – живчик, комарик, энергичный, худенький. Одно время я и звал его «комарик», потом он богемно нырнул на одной из тусовок с теплохода в Москву-реку, разбил голову, я стал звать его «пескарик». Шрам остался на всю жизнь, 6 см, но Шаров есть Шаров – в первый же звонок из больницы он сказал: «Знаешь, я сшил охренительную кожаную шапочку, теперь буду носить ее всегда, чтобы закрывать шрам». Модельер есть модельер.
Его обожают манекенщицы, он профессионал, в нем нет ни снобизма, ни хамства, он живет их проблемами. Он внес элемент терапии в отношения с моделями и с актрисами. Одеть Пугачеву, Гурченко, Дробышеву, Талызину, Жженова, Муравьеву, Ширвиндта, Терехову, Зудину, Державина, Быстрицкую, Аросеву – чистой воды психотерапия. Актеры иногда надевают невозможное. В спектакле «Старый квартал» мы специально мнем, смачиваем костюмы (жара, Нью-Орлеан!) – и это безумно помогает актеру в плане физического самочувствия. Взаимоотношения Андрея с актрисами феноменальны: он снимает любое напряжение. Одевая звезд, он учитывает их статус и диктуемое этим статусом положение: художник не должен продавать ни возраст, ни особенности фигуры актрисы. Звезда должна светить – и это Андрюша понимал прекрасно. Чтобы одевать Гурченко, надо иметь потрясающие нервы, чутье, такт. Еще он делает клипы, одевает Орбакайте, Свиридову, Преснякова. Его отдельный пунктик (он чокнутый на нем) – обувь. Он ходит в том, в чем не только пройти – постоять пять минут невозможно.
Я был тамадой на инфернальной свадьбе Андрея и Нонны (она манекенщица). Весь персонал Грибоедовского дворца бракосочетания упал в обморок, поскольку никогда не видел так одетых брачующихся. Оба были в коже: он – в черной, она – в белой. Носы их ботинок были длинными, как у туфель Маленького Мука. Женщина-церемониймейстер сбивалась с привычного текста, глядя на их обувь. Две кожаные цапли. Нонна – эффектная и инфернальная, высоченная. На ней раньше прекрасно смотрелись коллекции из булавок, она играла такую отмороженную, что не запомнить ее было невозможно. Очень странная и милая пара. (Нонна, например, никогда не бросала Андрея после фуршетов: она просто брала его на плечико и уносила на себе.) На их свадьбе в «Маяке» (театральное кафе на Маяковке) гуляли художники, артисты, модели и врачи, поскольку Нонна не только манекенщица, но и дипломированный хирург. Импровизированное дефиле перерастало в отрывок из «Игры в жмурики» на ненормативной лексике. Все завершилось битвой на шарах, которых Андрею Шарову подарили сотни – в таких колбасках-гирляндах. Теперь у них растут четыре дочери, а когда мы с Шаровым проходим в метро (у него никогда нет билета), я показываю свой проездной и говорю: «Это мой племянник». Андрей делает такое лицо, по которому ему не дашь больше 16 лет, и мы проходим. Когда контролер спохватывается, мы уже далеко. Однажды позвонили в дверь и спросили открывшего Шарова: «А взрослые дома есть?..»
И последнее, о чем никто не знает. Шаров – человек неуемный. За день до премьеры «Внезапно прошлым летом» он взял газовую горелку и весь свой черный сад – красивый, шуршащий – по краям оплавил. Стало еще страшнее. Один ночью он надышался газом и парами полиэтилена и угорел так, что мы утром вошли – а он валяется без сознания. Вызвали скорую, его откачали… После этого случая я понял: что бы с ним ни случилось, он будет со мной в одной связке. Даже если дирекция театра ставит вопрос о том, чтобы я взял другого художника, я Шарова не сдаю никогда, могу даже отказаться от спектакля. И он последние годы, лет двадцать, работает только со мной. Причем мы безумно разные во всем, от внешности до жизненного кредо…
У меня в квартире много Андрюшиной графики. Андрюша – человек фонтанирующий, суперталантливый, он часто не фиксирует, сколько у него чего. Иногда я у него дома просто из небытия, из дальнего угла, где пачками валяются его работы, достаю какой-нибудь эскиз, выпрашиваю, а потом подбираю багет, и люди ахают: «Какая эффектная вещь!»
Я его люблю и ни на кого не променяю…
Хобби
Часто спрашивают, что я делаю в свободное время. Репетирую другой спектакль. Для меня лучший отдых – переключение. На природе скучно, домашних животных не держу. Пишу стихи, новеллы – это моя режиссерская кухня. Цитата из моего спектакля: «Жизнь поэта – это его работа…».
Когда меня мучают журналисты – «ваше хобби», – я действительно откровенно отвечаю: такое профессиональное – я «коллекционирую» людей. Не в том смысле, что я их использую, нет. Я по-настоящему балдею от людей уникальных. Я коллекционирую не только актеров, но самых разных людей в жизни. Это не просто режиссерское умение наблюдать, я ловлю кайф от общения с людьми, далекими от искусства, но по-своему уникальными. Причем я не коллекционирую их фотографии, предметы, с ними связанные, – нет, это как бы внутреннее что-то, имеющее отношение к моей эмоциональной памяти, моему потоку сознания. И они со мной, пока я жив. А количество машин, квартир для меня не принципиально, потому что, как сказал Стасик Садальский, когда был у меня на премьере: «К гробу все равно багажник не приделаешь…»
Фоменко
Коля Фоменко – тонкий, умный, очень образованный человек. Между Колей в жизни и Колей-шоуменом – дистанция огромного размера. Кроме того, Фоменко – человек очень преданный и трогательный. Помню, когда мы выпускали мюзикл «Бюро счастья» по мотивам Агаты Кристи, у него умирал отец. Коля мотался к нему каждый день до репетиции ни свет ни заря, но никому об этом не говорил. И никому не показывал, что у него творилось в душе. Он был, наоборот, душой компании, веселил не только артистов – Люсю Гурченко, Гену Таранду, Алену Свиридову и Сашу Михайлова, – но и весь кордебалет, костюмеров и реквизиторов. Еще Коля обожает сам делать все трюки, без всяких дублеров, чем причиняет массу беспокойств и нервных подергиваний режиссерам и продюсерам. Даже я сломался. «Спецэффекты» росли в геометрической прогрессии: сначала Коля перелетел через оркестровую яму с оркестром в пятьдесят человек, потом захотел на лонже полететь на второй этаж декорации (высота пятиэтажного дома). И наконец, ему захотелось улететь на метле в колосники. Каждый раз с содроганием, когда смотрел «Бюро счастья», я ждал этого момента и вечно мучился: а вернется ли? Вдруг уже к звездам маханул?! Такой вот он человек.
Сколько может стоить такой артист, как Николай Фоменко? (Только на Бродвее, к слову, все знают, кто чего стоит.) Хотя у нас, к сожалению, все завязано на деньгах. Раньше казалось, что валять дурака перед зрителем проще простого. На самом деле это тяжелейший труд. Теперь все знают, чего стоила подобная легкость тому же Андрею Миронову. У Коли, кстати, вопрос оплаты не всегда главный. Есть немало жадных актеров, не буду называть их фамилий. Фоменко же иногда работает просто за интерес. Признаюсь, бывает страшно, когда узнаю, кто купил очередную нашу театральную премию. Или – кому купили.
Грустно, что ушли наши лучшие русские комики – Папанов, Леонов, Филиппов, Плятт, Мартинсон, Никулин, Евстигнеев, Крамаров, Моргунов, Вицин, Демьяненко, Ткачук. Но есть Колясик Фоменко…
Фирма
Я думал о своем фирменном театре. Даже могу сказать, что это случилось, но без моего активного участия. Само собой. Есть режиссеры-агрессоры: им важно присвоить какое-то пространство, территорию. Я не таков: мне нужно пространство интеллектуальное – и чем шире, тем лучше. Поэтому я и коллекционирую театры, города, страны…
Но есть и другая сторона: множество друзей-актеров, с кем я работал или намереваюсь работать. А им очень хотелось бы объединиться, что-то сделать уникальное: не один-два спектакля, а что-то в развитии, как манифестация какого-то театрального направления, может быть. Когда-нибудь мне придется собрать в одну команду всех своих друзей-актеров. Заканчиваются репетиции, я перебегаю в другой театр – и уже многим начинает не хватать моего внимания, моего стиля работы, деликатности и даже жестокости. Понимаю, что я в ответе за тех людей, которые мне однажды поверили, сделали все, чтобы принести успех моим спектаклям, и я не имею права о них не думать. Все-таки мои спектакли с другими не перепутаешь, это все отмечают. Но пока я говорю молодым актерам: «Вы становитесь, пожалуйста, популярными, и когда-нибудь…» А звездам: «Пожалуйста, не теряйте сил и здоровья, и когда-нибудь…» Когда-нибудь ради своих друзей-актеров я сделаю лучшую труппу в Москве. Я не могу их обмануть.
Мне неоднократно предлагали застолбить театр. Но я не сторонник насилия – в любой форме. Я пилигрим, работаю вширь, пытаюсь как можно больше людей «отравить» своим методом. Я люблю на досуге поразмышлять о «перемене участи». Я работал с самыми разными артистами, мои спектакли шли и идут в самых разных театрах – в Театре Сатиры, в Театре Вахтангова, в Театре-студии Табакова, на Бронной, в Ермоловском, в Театре Армии, в Театре Моссовета, где я служил ровно десять лет, в великом Малом театре. Я понимаю, что все эти спектакли чем-то объединены. Один мудрый человек сказал, что режиссер всю свою жизнь ставит один большой спектакль. Я рад, что мои спектакли всегда узнают. Даже более того, поскольку я человек щедрый, мне приятно, когда вижу куски из своих спектаклей в других постановках. Меня цитируют… Стал классиком? Да не в этом дело. Просто когда говорят, что тебя разворовали или использовали твою мизансцену, я почему-то начинаю испытывать кайф. Значит, понравилось. Хотя и сожалею, что в нашей стране нет понятия «право на интеллектуальную собственность…».
Театр Андрея Житинкина существует. Потому что существует метод Житинкина. Как бы к этому легкомысленно ни относиться, но я действительно «поиграл» в жизни, работал с таким количеством разных трупп со своими традициями, школами, методологиями. И я смог их всех заразить собой, своим методом.
И, согласитесь, в театрах, где я ставил даже всего один спектакль, этот спектакль не был похож на весь репертуар театра. Например, «Школа любви» с Людмилой Касаткиной. Он же совершенно вырывался из контекста Театра Армии. Это знают и зрители, и актеры, и тем более критики. И в разных театральных труппах, в разных предлагаемых обстоятельствах, с разными актерами мой метод работает.
А следовательно, я могу сказать, что уже есть мой театр. Если же говорить собственно о здании театра, тут мы поставим три точки…