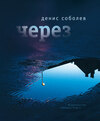Kitabı oku: «Воскрешение», sayfa 4
« 4 »
В начале антракта, когда все стали подниматься и поворачиваться, среди седых голов первых рядов Арина увидела дедушкиного друга Петра Сергеевича. Она не видела его уже больше года, но все равно почти мгновенно узнала. Тихо дернула Митю за рукав; «Тс-с», – сказал он, ему хотелось пирожных; здесь, в филармонии, была кофейня с хорошей кондитерской. Но мама уже проследила за их взглядами. «Надо подойти поздороваться», – сказала она как-то без выражения. Они вышли в проход и, двигаясь против движения, подошли к Петру Сергеевичу; с ним была девочка приблизительно Митиных лет. Арина не сразу ее узнала, потом поняла, что это внучка Петра Сергеевича, а узнав, вспомнила, как ее зовут.
– Рад вас всех видеть, – сказал Петр Сергеевич, улыбаясь. – А это моя внучка. Катя. Да вы же с ней знакомы.
– Катя, – повторила она, смущаясь, как показалось Арине, еще больше, чем раньше, и левой рукой откинула за плечо светлые волосы.
В ней было нечто неуловимо раздражающее. «Разве что книксен не сделала», – подумала Арина.
Медленно двигаясь вдоль прохода, а потом в сторону фойе, они поговорили об общих знакомых, о погоде, о настроениях в городе, о дирижерской интерпретации.
– Мравинский, конечно, гений, – сказал папа, – но, на мой вкус, в данном случае слишком жестко.
Арина мысленно с ним согласилась, хотя еще минуту назад думала иначе; она часто с ним соглашалась.
– А мне показалось, – возразил Петр Сергеевич, – что он как раз обнажил самое существенное, самую основу замысла. Некое гармоническое основание мысли. Как бы очистил его от всего, что могло бы отвлечь.
– В том числе и от чувств, – сказала мама. С ней Арина не согласилась; она еще помнила, как десять минут назад была полностью захвачена услышанным.
Внучка Петра Сергеевича молча улыбалась. За разговором они даже не спустились на первый этаж, так что не дошли и до буфета; но казалось, что про пирожные Митя уже забыл. Начали возвращаться в зал; Арина и Митя отправились провожать Петра Сергеевича и Катю до их мест. Петр Сергеевич попросил передать привет дедушке. Пропустил перед собой Катю. Уже сидя, снова обратился к Арине и Мите, вполоборота. Но не успел он сесть, как, разве что не растолкав Арину и Митю, к нему обратился незнакомый им человек. Поздоровался с Петром Сергеевичем, похвалил концерт и сразу же, почти скороговоркой, даже с некоторой обидой, рассказал, что неделю назад по ошибке попал на второй состав филармонического оркестра. Потом сказал, что «скоро начнут», и так же быстро и необъяснимо ушел.
– Дедушка, почему он тебя перебил? – спросила тогда Катя. Арине показалось, что Катя заговорила впервые, и этим она вызвала у Арины еще большее раздражение.
– Не обращайте внимания, – примирительно ответил Петр Сергеевич. – У него не очень хорошие манеры, но он выдающийся математик. Он сделал несколько эпохальных открытий. При случае я вам про него расскажу.
Сияли люстры; слушатели начали рассаживаться. Арина тоже попрощалась и стала возвращаться к родителям. И, только пройдя уже большую часть пути, она неожиданно обнаружила, что рядом с ней нет Мити; как это ни странно, он все еще разговаривал с Петром Сергеевичем и Катей. Сама Катя давно уже сидела на своем месте, тоже повернувшись к Мите вполоборота, а он продолжал с ней говорить, перегнувшись через спинку незанятого места. Арина удивленно и непонимающе взглянула на него, но Митя даже не заметил ее взгляда. Она увидела, что две сидевшие в следующем ряду седовласые дамы почти одновременно развернулись и с осуждением посмотрели на всех троих; Арина была полностью на их стороне. Петр Сергеевич что-то тихо сказал Мите, тот кивнул и побежал в сторону родителей. Но, пробежав приблизительно полпути («Куда смотрят его родители», – услышала Арина чье-то удивленное замечание), он неожиданно остановился и, снова повернувшись к ним обоим, замахал Кате. В этот момент Арина почувствовала странный укол, знакомый и незнакомый; так бывало, когда родители не обращали на нее внимания. Она не знала, как назвать это чувство, и, как ей показалось, быстро о нем забыла.
Снова вышел Мравинский, зал зааплодировал. Коротким жестом Мравинский прекратил аплодисменты, взмахнул рукой, и в образовавшуюся беззвучную пустоту вернулась музыка. Неожиданно для себя Арина поняла, что в этой музыке было то, чего она никогда не могла достичь, когда играла сама; и дело было не в технике. Она знала, что играет не очень хорошо, даже для своего возраста, и это совершенно ее не расстраивало. «Эта белобрысая, наверное, лучше меня играет», – подумала Арина, все еще раздраженно глядя в сторону седой головы Петра Сергеевича и его внучки, которую было едва видно из-за спинки кресла. Дело было и не в том, что звук ее фоно невозможно сравнить со звуком оркестра; никому бы не пришло в голову их сравнивать. Наверное, думала она потом, дело было даже не в гении дирижера. И все же в эти минуты она ощутила что-то такое, чего никогда не ощущала раньше. Впоследствии она часто возвращалась мыслями и чувствами к этому переживанию, пытаясь найти, но так и не находя для него нужных слов.
То многое, случайное, изменчивое и текущее, что она так часто слышала в прошлом или разучивала сама, отступило под грузом объединяющего его единства; и этот груз оказался столь легким, что все то мгновенное и с известной степенью определенности подлежащее фиксации нотами, что она слышала в каждый конкретный момент, приподнялось над этим скользящим движением, над внутренним ощущением времени, оказавшись в воздухе, собравшись в то значимое единство, для которого она не могла найти верных слов. Ей казалось, что музыка стала прозрачной и через нее проглядывает что-то еще, другое, неуловимое, но несомненное и настойчивое. В этот момент Арина почему-то вспомнила промелькнувший около двух часов назад перед ее глазами желтый силуэт Русского музея, зависший в освещенном фонарями темном осеннем воздухе. Пожалуй, никогда еще она не слушала музыку так невнимательно и никогда, ни до, ни после, не ощущала столь отчетливо проявившийся перед ее глазами смысл. Казалось, что воздух филармонии расступился и она увидела нечто по ту сторону воздуха.
– Дедушка, а что существует по ту сторону воздуха? – спросила Арина через несколько дней. Она не хотела говорить об этом с родителями, да и с Митей тоже: «Пусть общается с этой дрессированной белобрысой», – подумала она тогда.
– Эфир, наверное, – улыбнулся он. – Только эфира не существует.
– А я его видела, – спокойно и уверенно ответила Арина.
« 5 »
Той весной и тем летом Митя тоже осознал нечто важное, нечто такое, что тогда, разумеется, еще не мог сформулировать и тем более осмыслить; и все же само это смутное осознание, хоть и появившееся пока в случайном, хаотическом опыте, сохранилось у него в памяти. Это осознание касалось сущности пространства. В те годы они с Лешей постепенно начали проводить все больше времени без взрослых; бегали не только вокруг домов и по соседским дворам. Изучали окрестности дачи, уходя от нее все дальше, разглядывая покрытые ряской лесные пруды с гулким чавканьем воды и отчетливым кваканьем лягушек. Шатались по паркам, ближним и дальним, по улицам центра и широким новым проспектам, по стройкам и железнодорожным насыпям. Взламывая двери, залезали в законсервированные городские бомбоубежища. Иногда даже углублялись в Удельный лесопарк, приближаться к которому им было категорически запрещено. Разумеется, совсем не обо всем этом они рассказывали родителям и уж тем более не рассказывали о походах в лесопарк. А весной их давнее, практически несостоявшееся приключение с Элизабет Тейлор получило неожиданное продолжение.
Митя вспомнил про нее случайно, через несколько лет, и решил узнать, кто же она такая; у «Брокгауза и Ефрона» ничего о ней не нашел, так что пришлось идти в школьную библиотеку, где была Большая советская энциклопедия. От прочитанного Митя пришел в восторг и настолько увлек Лешу своим открытием, что они решили снимать фильм, вооружившись модернизированной кинокамерой «Аврора» с перфорацией «Супер 8». Арине, хотя она и была маленькой, они тоже разрешили присоединиться. На самом деле поначалу камеру «Кварц» с более сложной оптикой, хоть и пружинным механизмом родители им не дали, а другую купить отказались. Кинопроектором «Русь» пользоваться разрешили, но без своей камеры на нем можно было смотреть разве только что выпуски «Ну, погоди!» да короткометражки про Вицина, Моргунова и Никулина. Все трое были пьяными и смешными им совершенно не казались. Так что без камеры проектор оказался абсолютно бесполезным. Они с Ариной долго на это жаловались, и в итоге камеру им купили дедушка и бабушка. Митя случайно услышал обрывок ссоры на эту тему.
– Зачем вы портите детей? – говорила мама, да еще и на повышенных тонах, так что было слышно через закрытую дверь; говорила едва ли не на пределе того, насколько было вообще принято повышать голос. Разумеется, приезжавшие «отовариваться» родственники постоянно друг на друга орали, но это не определяло иную норму для них самих; скорее просто превращало родственников в непреодолимо чужих. Они и были чужими.
– Мне вы таких дорогих игрушек не покупали, – добавила она.
– Ирочка, прекрати. Пусть снимают свой фильм, – спокойно сказал дед, а потом добавил нечто не очень понятное, но именно в силу своей непонятности так и не стершееся из Митиной памяти: – Все это очень хрупкое. Ты даже не представляешь насколько. Мне иногда кажется, что чуть коснешься пальцем – и все рассеется. И ничего больше не будет.
– Что тебе кажется здесь хрупким? – продолжила она, все еще громко, но, видимо, постепенно успокаиваясь; это была привычная тема и привычный разговор, так что орать именно сейчас особых причин вроде бы уже не было. – Что тебе кажется хрупким? Маразматические старцы? Тысячи ракет, которыми мы пугаем весь мир? Десятки тысяч танков? Да даже если все это вдруг и развеется, во что я не верю ни на минуту, человечество только вздохнет спокойнее.
Так у них появилась камера. А вот по поводу истории они долго спорили. Мите хотелось снимать фильм о ковбоях и индейцах, как в гэдээровских фильмах с Гойко Митичем или в тех фильмах, которые показывали в Доме кино на Манежной; Лешу же ковбои совершенно не интересовали, ему хотелось снимать фильм про то, как на нас нападают злые американские пираты, как в «Пиратах XX века», но они оказываются не только подлыми, но и слабыми, и мы их побеждаем; а Арина вообще хотела снимать сказку с эльфами, гномами, призраками и привидениями, чтобы было как в «Хоббите». Была еще возможность, которая нравилась им всем, снимать фильм вроде «Неуловимых мстителей», и там могли бы быть и ковбои, и злые американцы, и привидения, но именно к такому фильму им никак не удавалось придумать сюжет. Так что пока они просто решили снимать фильм о том, как хорошие побеждают плохих – и американских разбойников, и привидения, и гоблинов, и бандитов из «Неуловимых мстителей», хотя побеждают, конечно, не сразу, а поначалу иногда даже пугаются, но зато такой фильм они могли снимать по частям, придумывая каждый кусочек по отдельности и не вступая в бесконечные споры о том, что же именно они делают. Они пристроили к работе еще пяток соседских детей, одному из них родители тоже дали камеру, хоть и какую-то слишком сложную, и в разных составах они по полдня бегали по окрестным паркам и дворам, строительным площадкам и проходившей недалеко от дома железной дороге Москва – Хельсинки, по которой на самом деле в основном гоняли бесконечные товарняки; а потом уже, летом, по лесам вокруг дачи. Так, практически случайно, разумеется об этом не подозревая и все же постепенно расширяя круги увиденного внимательными глазами мысли, Митя едва ли не впервые соприкоснулся с сущностью пространства.
« 6 »
Второе его соприкосновение с мыслью о пространстве было скорее опытом свидетеля. В Кировском театре иногда бывали дневные балеты специально для детей; с одного из таких балетов они с дедушкой и Ариной возвращались. Решили немного пройтись; дойдя до ограды сквера, окружавшего Никольский собор, увидели Петра Сергеевича и Катю, молча идущих по направлению к выходу вдоль широкой дорожки с оградами по сторонам. Яркое дневное солнце светилось на голубых барочных очертаниях собора, высоких куполах, крестах, колокольне, стоящей отдельно, на самом берегу канала, зелени сквера. Петр Сергеевич шел чуть позади, ссутулившись; Катя думала о чем-то своем и смотрела вперед светлым отсутствующим взглядом. Дедушка жестом остановил детей и, когда Петр Сергеевич подошел поближе, окликнул его; тот удивленно поднял голову. Заулыбался. Катя, судя по всему, осталась к встрече равнодушной. Вместе они продолжили идти вдоль сквера.
– Как мне кажется, – неожиданно сказал Петр Сергеевич, после того как обычные приветствия остались позади и все они даже выдержали небольшую паузу, – когда вы, историки, даже великие, пишете о России или Союзе, вы упускаете нечто очень важное. Что естественно. История – это наука о времени и о событиях во времени. Но о России нужно думать в первую очередь в пространстве.
– На мой вкус, – ответил Натан Семенович, – это звучит слишком философски и слишком обще. История наука эмпирическая. Или, по крайней мере, старается такой быть, когда не хочет за себя стыдиться.
– Нет, нет, – возразил Петр Сергеевич, – я имею в виду нечто очень простое и очень конкретное. Мы живем в самой большой наземной империи в истории человечества. В данном случае это не философская посылка, а факт, неизбежная контекстуальная данность самой мысли. Нельзя думать о России, не принимая его во внимание. Поэтому быть человеком именно в России – значит быть именно в таком пространстве. И быть в такой истории. Ты не согласен?
Натан Семенович взял секундную паузу.
– В таких терминах я никогда об этом не думал. Хотя это правда, конечно. Но что из этого следует? В какой-то более практической плоскости.
Они вышли на канал; солнце отражалось в мелкой ряби городских волн.
– Ты завтра вечером свободен? – спросил Натан Семенович.
Петр Сергеевич кивнул.
– Тогда приходи поближе к вечеру. И Вера будет тебе очень рада.
Петр Сергеевич кивнул снова. Когда они с Катей ушли, Митя удивленно взглянул на деда: редко видел его столь сосредоточенным. Иногда ему даже казалось, что дед думает, что знает ответы на все вопросы, и это раздражало.
– Почему его внучка всегда с ним? – спросил Митя. – А ее родителей ты никогда не приглашаешь? Они их прячут?
– Ее родители в командировке, – ответил дед.
– Где?
– Сын Петра востоковед. А его жена предпочитает жить вместе с мужем. Где бы это ни было.
– И что? – спросил Митя.
– Не то чтобы причины не были реальными, но мне, как историку, кажется, что нам все же не следует туда соваться.
Дед почти всегда говорил понятно, так что было видно, что он думает о чем-то другом. Митя понял, что это связано с завтрашним разговором, и напросился на Петроградскую на следующий вечер. Арина отказалась наотрез; она уже поняла, что Катю не переносит. Но на этот раз Петр Сергеевич пришел один, без Кати. Устроились прямо в кабинете у дедушки Натана, среди книжных полок до потолка, напротив эркера. Митя сидел в самом углу кабинета, тихо как мышь.
– Глядя на большинство стран, – почти без предисловий сказал Петр, когда они сели, а Вера принесла пирожные и разлила чай по чашкам, – мы обычно в первую очередь ищем последовательность и причинность. В российском же пространстве все происходит одновременно. Избыток хаоса и избыток власти, исключительная внутренняя свобода и крепостное рабство, сложность и примитивность, крайности веры и цинизма, тотальности и духовности и мещанства, невиданная по тем временам новгородская демократия и садистская автократия Ивана Грозного. И разные люди – они тоже одновременны; карелы и якуты. Да что там говорить. Мы сущностно обречены на противоречия и одновременность.
Натан внимательно его слушал.
– Точно так же в России интеллигенция и народ, – продолжал Петр. – Как две стороны одного листа бумаги. Они созданы единым историческим процессом, их невозможно разделить, даже онтологически они не могут существовать друг без друга. Трагедия в том, что эти две стороны не только перестали друг друга понимать, но даже видеть.
– Для двух сторон листа бумаги, – ответил Натан, чуть усмехнувшись, – видеть друг друга было бы несколько странно.
– А ведь это еще и ответ на самый больной современный вопрос, – добавил он после короткой паузы. – Красные и белые. И те и другие правы. И те и другие ужасны. И те и другие укоренены в прошлом, хотя и по-разному. Без тех и без других русскую историю уже невозможно помыслить. И настоящее тоже. Как две стороны одной монеты, одного листа, как ты бы сказал, одной одновременности.
– Наверное, ты прав, – ответил Петр. – Хотя именно это мне труднее всего признать. Я много об этом думал, ты же понимаешь. Не люблю красных. И их зверства не люблю. Но если у одного человека десять домов, а у тысячи других нет даже своего угла, это та несправедливость, защищать которую невозможно. И уж тем более невозможно оправдывать, будучи христианином.
– Это ты мне говоришь? – спросил Натан.
Впервые за весь разговор Петр улыбнулся, и Мите как-то сразу стало понятно, что такие разговоры они иногда ведут.
– Я говорю это тебе как историку, а не как еврею.
Теперь заулыбалась даже Вера; до этого она слушала разговор немного настороженно. В отличие от мужа она не очень любила Петра и временами, хотя и без понятных оснований, даже подозревала его в том, что он скрытый антисемит. Но сейчас она заулыбалась искренне.
– А еще, – вдруг добавил Петр, – мы ведь страшно одиноки в этом пространстве. По ту сторону его границ у нас никого нет.
– Ты же знаешь, – возразил Натан, – в этом мы с тобой не сойдемся. Я убежден, что по очень многим признакам мы часть европейской цивилизации, но мы не чужие и для исламского Востока, а народы России связывают нас столь многими нитями со всем миром, что мало кто менее одинок, чем мы. Нам же все понятны, почти все в чем-то близки; мы понимаем и любим английские и американские романы. А они воображают нас медведями в буденовках.
Петр покачал головой.
– Вот именно, – сказал он, противореча собственному жесту. – Все это поэзия, Блок. Мы уже когда-то жили этими иллюзиями и теперь снова начали ими жить. Никакая мы не европейская и не азиатская страна. Для танго нужны двое, ты не забыл? А они нас братьями не считают, и на нашу всемирную отзывчивость им наплевать. Когда мы Одер не переплываем, разумеется. Ты помнишь, как мы с тобой форсировали Одер, а? Как тогда казалось, что наступает счастливый новый мир?
– Но он во многом и наступил.
– Во многом. Но не потому, что у нас неожиданно появились друзья и братья. Помнишь, как мой дурачок у тебя здесь ораторствовал, что он славянин? Мои предки триста лет воевали за всяких братьев-славян, которые про нас вспоминают, исключительно чтобы как-то использовать. А где все они были, когда к нам приходили беды? Хоть кто-нибудь из них?
– По части братьев-славян я тебе не советчик, – усмехнувшись, сказал Натан. – Да и, как мне кажется, ты все же немного перебарщиваешь. Ну что они могли сделать? Чем могли России помочь?
– Например, не вставать на сторону ее врагов.
– Допустим. Хотя вот что я действительно не понимаю, так это нынешнюю страстную любовь моей дочери и ее сверстников к прибалтам, Венгрии, Германии, прочим друзьям нашим драгоценным. Угнетенные, островки свободной Европы. И почему-то особенно именно те, у кого нацистские пулеметы еще спрятаны в сараях. Интересно, кроме нас с тобой историю теперь вообще кто-нибудь помнит?
– Дело не в этом, – сказал Петр. – Дело в самой сути. Англия – не бритты, германцы или норманны. Это то новое, что стало всемирной цивилизацией. Точно так же и Россия. Россия – это то новое, что несводимо к своим древним частям. И в этом новом мы абсолютно одиноки. Мои предки умирали то за предполагаемых славянских братьев, которые их тихо ненавидели, то за будущее европейских народов. Благодарности это самопожертвование нам не принесло. Так что и устраиваться нам надо теперь самим. Без иллюзий. А возрождать сейчас идею наций и есть непонимание России и русской культуры, ну или Союза, если ты так предпочитаешь, как особой модальности бытия в пространстве. Это политика саморазрушения и самоубийства. Теперь я звучу достаточно практично?
– Да ты стал коммунистом, – изумленно ответил Натан.
« 7 »
– Ирина Натановна, как хорошо вы сегодня выглядите.
Она подняла глаза, улыбнулась.
– От вас почти всегда веет таким спокойным счастьем.
Снова улыбнулась.
– Может быть, просто осень кончается, – ответила она. – Не люблю осень.
– Осень все ненавидят.
– Мне пора домой, – сказала она. – У нас в гостях мои родственники. Они обидятся, если я поздно приду. А у меня отличные родственники.
Ира вышла с работы, но пошла пешком. Было холодно; со стороны залива дул пронзительный ледяной ветер. Наверное, она еще и одета была не по сезону. Как-то почти перестала за собой следить – даже обращать внимание на то, в чем выходит из дома. Она продрогла, но продолжала идти, стараясь держаться более защищенной от ветра стороны улицы. Уже прошли первые снегопады, так что у стен и вокруг деревьев лежал серый талый снег. Небо тоже было тяжелым, низким и серым; казалось, что еще немного, и облака начнут задевать за крыши домов. Стоял позднеосенний вечер, из тех бесконечных темно-серых ленинградских северных вечеров, когда день давно кончился, если вообще был, а ночь все еще не наступает. Домой Ире не хотелось совершенно; и вот уж кого она точно не готова была сейчас видеть, так это родственников из Хмельницкого. Ей казалось, что они много о чем догадываются, а вот отчитываться перед ними она вовсе не собиралась; да и говорили они в основном сами и о себе. Было понятно, что кроме них самих их едва ли хоть что-то интересует. Кроме того, она вообще не понимала, почему родственники снова оказались у них с Андреем; почему Андрей дал на это согласие. У нее самой практически не было выбора; это же все-таки ее родственники. Но от его бесхарактерности она устала. Родственники могли бы запросто пожить у ее родителей; хоть чем-то родители бы помогли, раз уж ни тепла, ни человеческой поддержки от них не дождаться.
Кроме того, Ира подозревала, что, несмотря ни на что, отец все равно поддерживает с Асей какие-то контакты; даже теперь, когда Ася уже переехала в Москву и общаться с ней он никак не был обязан. Но он всегда любил племянницу; к сожалению, сильнее собственной дочери. Ира давно об этом догадывалась, но после всей этой истории это стало как-то особенно понятным; и боль от осознания этого чувства не проходила со временем. А то, что он поддерживает контакты с Асиной мамой, она знала наверняка. Отец даже не пытался это скрывать. «Она же моя сестра», – говорил он. Хотя, казалось бы, в нормальной семье именно она, Ира, его собственная дочь, должна была быть для него на первом месте; но нет, ей можно было изменять и лгать, ее можно было пинать, обманывать, унижать, а у него все равно находились отговорки. Мама, конечно же, встала на ее сторону, но тоже так странно, что, может быть, лучше бы она просто промолчала.
– Ирочка, – говорила она, – ты все выдумываешь. Ничего у Андрея с Асей не было и быть не могло.
В том, что у них что-то было, Ира была уверена; женское чутье в таких вещах не ошибается. А ведь Ася ее двоюродная сестра. Да, они никогда особо не ладили, но это не было отговоркой; это не было вообще ничем. Если бы речь не шла о ее собственной кузине, подумала Ира, наверное, было бы как-то проще смириться. Хотя все равно, зная обо всем, продолжать молчать, каждый день возвращаться в дом к практически чужому человеку, ради детей продолжать разыгрывать эту пустую и унизительную комедию было невыносимым. Но чем больше энергии у нее уходило на то, чтобы продолжать играть эту заранее проигранную роль, тем меньше душевных сил и, видимо, тепла оставалось для детей. Они постепенно отдалялись. А еще дети ничего не чувствовали и продолжали требовать и только требовать. Кроме того, ее же собственные родители настраивали детей против нее; в этом она тоже была практически уверена. Да еще и пичкали их этим гнусным советским бредом. Все это было отвратительно; ей было больно об этом даже думать. И во всем этом не было ни единой отдушины. Ира чувствовала, как серый, тяжелый, промозглый вечер проникает в каждую пору тела, давит на нее, прижимает к земле. Несмотря на сильный западный ветер, ей казалось, что она задыхается. Потом она поняла, что продрогла и устала до такой степени, что ноги сейчас подогнутся и она просто упадет. Каждый следующий шаг давался ей с трудом. Ира дошла до трамвайной остановки и, даже не взглянув на номер, села на какой-то трамвай.
Трамвай трясся, дребезжал и петлял, ощутимо подпрыгивая на рельсовых стрелках; он двигался куда-то в сторону порта, а потом, наверное, за Нарвскую заставу. Улицы там были темнее, а фонари казались совсем тусклыми. Делать ей там было нечего, но Ира подумала, что всегда сможет вернуться на метро. Наверное, следовало бы узнать, какой это номер, но и на это у нее уже не оставалось сил. Она решила, что в крайнем случае доедет до кольца, а там пересядет на тот же номер в обратном направлении и когда-нибудь все равно доберется до какой-нибудь станции метро. Ей было все равно до какой; казалось, что ей уже вообще все все равно. Но неожиданно она поняла, что какая-то посторонняя мысль прервала теперь уже обычный для нее поток внутренней горечи; это была мысль о том, что трамвай красный. Она точно знала, что он красный; красными были все трамваи. «У них даже трамваи красные», – с ненавистью подумала Ира. Выглянула в окно. Свет от трамвайных окон двигался вместе с ней сквозь холодную ленинградскую ночь. Ее захлестывало волнами боли, одиночества, безнадежности, оставленности, затягивало тяжелым холодным морем бездомности, ненужности и отсутствия любви. Временами пассажиры входили и выходили; выходили чаще, чем входили. Трамвай был уже почти пустым, а за окнами наступила ранняя ночь. На каждой остановке из открывающихся дверей падал поток холодного воздуха. «Чтоб всех подобрать, – подумала Ира, – потерпевших в ночи крушенье, крушенье».
« 8 »
Вся эта ситуация Андрея изрядно раздражала. Ирка непонятно где шлялась, дети были у ее родителей, а он сидел на кухне с ее же родственниками и был вынужден вести какие-то совершенно дикие разговоры. И тот ее аргумент, что приезжают же к ним временами его брат с женой, совершенно не убеждал, потому что одно дело Лена или ее Поля, которая с обоими детьми как-то замечательно подружилась, а другое эти дикие родственники из Хмельницкого, которых сама Ирка не переносила, хотя всячески это отрицала. И вообще, почему они живут у них, а не, например, у Иркиных родителей. Или у Асиной мамы. При мысли об Асе ему стало еще тошнее; вот о ней точно не следовало думать. Уже два года он старательно себе это запрещал, и обычно ему даже удавалось этому запрету следовать.
К счастью, Иркины родственники уже, кажется, скупили весь Гостиный двор и половину Пассажа и вечером должны были уехать. Собственно говоря, через пару часов ему самому и предстояло посадить их на поезд; было даже непонятно, почему именно сейчас он вдруг так разозлился. Как-то же переносил он их все эти дни, разве что старался не слышать ничего из того, что они говорили. Иркины родственники тем временем продолжали говорить, но, поскольку Андрей еще несколько дней назад решил, что эту белиберду человек понять не способен, да ради душевного здоровья и не должен пытаться, то, даже если бы он сейчас вдруг и решил попытаться понять, о чем они говорят, ему бы, вероятно, это не удалось, потому что предыдущие серии он все равно не видел. «Часть седьмая. Здесь можно поесть, – мысленно сказал себе Андрей, пытаясь успокоиться. – Потому что я не видал предыдущие шесть». В этот момент он с удивлением понял, что его благодарят. Оказалось, что на всякий случай они хотят выехать заранее, чтобы не опоздать на поезд или не пропустить, если отправление неожиданно перенесут.
– За что? – спросил Андрей.
– За гостеприимство, – сказал тот, кого Андрей мысленно именовал «муж», хотя на самом деле его звали Вовчиком. Андрею казалось, что у подобных людей имен вообще быть не может; они представлялись ему существами не вполне одушевленными.
– Евреи должны друг другу помогать, – добавил муж Вовчик. – Тем более родственники.
Андрей кивнул.
– Хотя тот еврей, который взял на работу Оксаночку, – помнишь, мы тебе рассказывали, – нам вообще не родственник. А вот где-то сработало.
Андрей кивнул снова.
– Ага, – сказал он. – Просто хороший человек.
– И хороший еврей, – подхватила «жена», та самая Оксаночка, которую неизвестный ему человек и взял на работу.
Андрей разозлился еще больше. «А ведь, с другой стороны, некрасиво, – подумал он, – что я мысленно отказываюсь называть их по именам. Все это как-то дурно». Но и остальное было так себе. Он знал, что перебороть презрение способен далеко не всегда.
– Жаль, что детей не увидели.
– Я же вам говорил, – скучно ответил Андрей, – Ирины родители их забрали. Боялись, что вам будет тесно. Они вас очень любят.
Гости недоверчиво переглянулись.
– А Ира тоже не придет с нами попрощаться? – расстроенно и немного обиженно спросили они.
Андрей пожал плечами.
– Не знаю, – ответил он, – у них там аврал на работе.
Гости еще раз обиженно переглянулись.
– Ладно, – сказала Оксана, – передавай ей привет. Насильно мил не будешь. Большое вам спасибо.
Они собрали вещи и покупки, а Андрей проводил их на Николаевский вокзал. Посадил в поезд. Дождался отправления. Выдохнул с облегчением. «Я что, боялся, что они тихо вылезут и снова окажутся у нас дома?» – подумал он и твердо решил, что в следующий раз они будут жить у Иркиных родителей. Впрочем, нечто подобное он уже решал в предыдущий раз, но по не очень понятной причине Иркины родственники снова оказались у них. Да еще и сама Ирка решила перевалить их на него. «Интересно, а правда, как там дети?» – подумал он; впрочем, он знал, что обычно на Петроградской скучно им не бывает. Скорее уж Ирка потом выходит из себя от того, что им успевают наговорить ее родители; Андрей в их отношения старался не встревать.
– А почему ты нам это рассказываешь? – спросила Арина, неожиданно осознав, почти что кожей, уже знакомое по прошлому, но все еще немного странное волнение понимания и предчувствия.