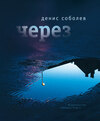Kitabı oku: «Воскрешение», sayfa 9
А вот с тем, что пипл называл музыкой, у Мити сложилось не очень, и высокохудожественными ему эти произведения не казались. Общий драйв рок-клуба, конечно, захватывал, но по большей части все это было уж слишком серьезно, а временами еще и надрывно; при этом как раз слова обычно было лучше не слышать. Что самое обидное – сказать об этом было невозможно; подобного тусовка не прощала. На Трубе тоже играли, но обычно очень так себе, да и толпы проходивших в обоих направлениях в сочетании с асканьем как-то не способствовали. Но было у Мити и любимое место – Ротонда. В основном там просто тусовались, но уже без серой тесноты легендарных общепитов и растерянных приезжих, не говоря уж о фарцовщиках. Так что и общались там немного иначе, хоть и не без телег, конечно. В холле Ротонды, окруженном гигантской винтовой лестницей, была отличная акустика. Когда пели, пели проще, жестче и прямее, без той позы, которая к тому времени уже выработалась в Рок-клубе. А вот пьяных и обдолбанных было больше; часто валялись прямо на полу, но по-хорошему. Гопоты не было совершенно. А еще среди пипла на Ротонде острее ощущалась атмосфера фрилава. Почти всегда здесь было много отличных девиц, своих в доску, включая Митину первую женщину, хотя, как он выяснил впоследствии, как раз его она практически не запомнила.
« 7 »
Где-то почти в самом начале Митиного тусования на Ротонде он познакомился с девицей по имени Урда. Почему ее так звали, она не объяснила, а спросить Митя постеснялся. Не то чтобы она была олдовой, даже близко нет, но все же была чуть старше его и казалась значительно опытнее. Потрепались, послушали музыку, выпили, чем-то Урда вроде даже закинулась, но по мелочи; никаких серьезных изменений Митя в ней не заметил. Ее родители работали на Шпицбергене, так что в ее распоряжении была целая квартира.
– Так у тебя теперь флэт? – заинтересованно спросил Митя.
– Еще чего. – Она даже фыркнула.
Когда начали расползаться, Урда спросила Митю, нужна ли ему вписка.
– Спасибо, – сказал он. – Я же ленинградский.
Его немного удивило, что после всех их разговоров она уже забыла даже это. Урда критически провела по нему взглядом.
– Тебе нужна вписка, – заключила она.
– Почему?
– Ты как картинка с выставки. Как тот хиппи, будешь ночью из кастрюли лапшу руками есть.
Митя попытался объяснить ей, что она ошибается, но Урда была непреклонна. Ему почему-то показалось, что она пытается выглядеть пьянее, чем была на самом деле. Но спорить ему было тяжело, язык немного заплетался; в этом она была права. Так что он поехал вписываться к ней. По дороге еще потрепались, и Митя увидел, что Урда почти окончательно протрезвела.
Едва заперев дверь, она начала сбрасывать одежду на пол; сначала верхнюю, но на этом не остановилась. Урда не была толстой, даже полной, скорее просто крупной; крупные руки и ноги, большая грудь, широкие скулы.
– Вперед, – сказала она. – Ты вообще собираешься раздеваться?
Мите было неловко. До этого он и целовался-то всего пару раз, да и то с давно знакомыми соседскими девицами, с которыми тусовался еще в гаражах. Серьезно это не было. Но что мог, он сделал, может быть не сильно блистательно, но, как ему показалось, и без тех катастрофических провалов, над которыми издевались девицы на тусовке. В особом восторге Урда, похоже, не была, хотя пару раз вскрикнула и чмокнула его вроде бы с искренним теплом. Сказала, чтобы заваливался на родительскую кровать в соседней комнате, и почти сразу же срубилась. Митя вышел в небольшую проходную комнату, оделся. Почему-то ему очень хотелось есть. Открыл холодильник, нашел кастрюлю с макаронами и, действительно, чуть было не начал хавать их руками. Потом вдруг вспомнил и побежал искать телефон.
– Очень рада тебя слышать, – сказала мама голосом без малейшей нотки радости.
– Прости, пожалуйста. Мы тут пели и общались, и я как-то не заметил времени. А сейчас еще и метро закрыли.
– Так вы уже допели?
– Не совсем еще, но те, кто живут рядом, постепенно расходятся.
– И что ты собираешься по этому поводу делать?
– Надеюсь, найдут, где меня положить. Здесь большая интеллигентная квартира.
– Охотно верю, – ответила мама. – И избранное общество. Почти аристократическое. В подобных местах оно всегда такое. Главное – в него попасть. Большое тебе спасибо, что позвонил сегодня, а не через неделю.
Митя растерялся и промолчал.
– Спокойной ночи, – сказал он.
– Как скажешь. Спокойной ночи и тебе. – Мама повесила трубку.
Митя вернулся к макаронам, все-таки вывалил их на тарелку, поискал нож и вилку, вспомнил, что нож не нужен, не нашел ни того ни другого и все-таки съел лапшу руками. Тихо вымыл за собой тарелку. Заходя в спальню Урдиных родителей, он почувствовал себя крайне неловко, но при виде комнаты понял, что вписывались в ней и до него. И, вероятно, вписывались немало. Завалился на шершавое покрывало. Первый раз в жизни попытался уснуть, не раздеваясь, но из этого ничего не получилось. Тогда он снова включил свет, открыл платяной шкаф, нашел постельное белье, постелил, даже вставил одеяло в пододеяльник, забрался под него и почти мгновенно уснул.
Проснулся он оттого, что Урда вылила на него банку холодной воды.
– Тебе здесь что, гостиница? – крайне недовольно спросила она. – Тоже мне разлегся. А кто потом белье стирать будет? Ты? Что-то я сомневаюсь. По шкафам все лазать умеют, только у нас в Питере так не принято. Усвоил?
– Угу, – сказал Митя.
– Тебе в Питере вообще есть где вписаться? Я тебя могу еще день-два повписывать, но здесь тебе не флэт.
– Я уже понял. Но я вообще-то питерский.
– Так какого ж хуя ты здесь делаешь? – Теперь была ее очередь удивляться.
– Ты вчера сказала, что меня предки уроют, если я в таком виде домой вернусь.
– Что, правда? Заботливая какая. Сама себя не узнаю. Не помню, нахрен. Вообще не помню, как приехали.
– А еще я ночью почти всю лапшу съел, – признался Митя. – На хавчик пробило.
– Блядь, что же мы тогда на завтрак жрать будем? Ты что, и правда решил, что я тут гостиница? Ладно, хрен с тобой, не грузись, – добавила она. – Нет лапши, так и нет. Сварганим чего-нибудь.
До трамвая пришлось идти через огромный двор, больше напоминавший пустырь, и Митя удивился тому, что вчера вечером всего этого не заметил. А потом еще почти полчаса трамвай трясся до метро «Купчино». «Заповедные места», – подумал Митя. В голове еще шумело. Свалившийся на него опыт был таким странным, что он не знал, что с ним делать и что об этом думать. Митя подумал, что с Урдой они явно еще увидятся, и увидятся много где, а он так и не мог решить, говорить ли ей и что именно говорить. Решил оставить решение на потом.
А вот разговор с Рабиндранат получился самый неприятный, и Мите стало перед ней стыдно.
– Я, можно сказать, тебя в люди вывела, – сказала она, даже не поздоровавшись, – по комиссионкам с тобой шмоналась, а ты с этой блядью ушел.
– Ничего у меня с ней не было, – ответил Митя, стараясь не поднимать глаз.
– Не трахай мне мозг, а? Я-то думала, что ты голубой, что ты ко мне так, а я тебе, значит, просто не нравлюсь? И сказать это по-человечески ты не мог?
– Ты мне очень нравишься. – Это было правдой, так что ему было легче посмотреть ей в глаза.
– Поезд ушел, – отрезала Рабиндранат и месяц с ним не разговаривала.
« 8 »
Чуть позже произошло еще одно изменение, ставшее для Мити существенным: его перестала отталкивать музыка. Дело было не только в драйве и ощущении своей причастности общему переживанию, но, как это ни странно, в первую очередь в самих смыслах. Он понял эту музыку как-то неожиданно, рывком, а поняв и почувствовав, уже не мог оторваться. Она начиналась у самых низов быта, у тех пластов жизни, с которыми Митя почти не сталкивался или которые уже не застал, поднимаясь из грязных складов и сортиров в коммуналках, подворотен и складов, разбитых дворов и темных переулков, кружась над пьяными трактористами и соседями по лестничным площадкам хрущевок, торгашами и уголовниками. Но это не было главным; сквозь это отвратное и душное месиво били слепая и неистощимая энергия и открытость опыту, хаос крови, не находящие себе применения и перемежающиеся столь же слепыми всплесками надежды. А еще выше, и над бытом, и над этой хаотичной пляшущей энергией бесцельной жизни, нависала тоска по бесконечности, неготовность удовлетвориться чем бы то ни было, кроме недостижимого всего или столь близкого ничто. Все это было связано друг с другом гипнотическим однообразием бьющегося ритма и той громкостью звука, которая заглушала всякие мысли. В этой смеси, оказавшейся столь единой и столь органичной, рваные предложения, еще относительно недавно казавшиеся бессмысленными, и слова, до сих пор бывшие для Мити лишь случайными и пустыми украшениями пульсирующего крика, приобретали трагический и горестный смысл, ускользающий от логического пересказа.
К своему немалому изумлению, постепенно Митя начал слушать музыку и на кассетах. Ее нервный ритм, надрыв и слепота, паясничанье и бессмыслица неожиданно оказались для него близкими; страстная жизненная энергия, разбивающаяся о стену холодного советского мира, опустошенность, тоска, счастье, отчаяние, страсть, слепая воля, хаотичный и невидящий бунт, способность до самого конца уходить в свои чувства и упиваться ими, а еще отзывавшиеся во всем этом огромные пространства неожиданно нашли дорогу к его душе, и раз за разом эта дорога становилась все короче. Митя погружался в музыку все глубже и глубже, сливался с ней все легче и легче, и она становилась для него все менее и менее чужой. Когда народ начинал подпевать, Митя иногда подпевал вместе с ними, и поначалу сам не мог поверить, что это делает. Это открытие и произошедшие в нем самом перемены показались ему столь значимыми, что он попытался приблизить к этому миру Арю; даже взял ее с собой в рок-клуб на Рубинштейна. Зная Арину неприязнь к сентиментальности, повел ее на концерт жесткий, надрывный, местами страшный.
– Уши, – сказала Аря, когда они сворачивали назад на Невский.
– Что?
– Мне кажется, столько грехов они не совершили.
Все еще оставаясь под чуть гипнотическим влиянием музыки, Митя посмотрел на нее с недоумением.
– Уши, мои уши, – объяснила Аря и добавила: – Поздно, батенька, прокомпостировали.
– Прекрати, – обиженно ответил Митя.
– Мне кажется, что я знаю, что такое рок-музыка, – продолжила она, – хотя и не очень ее люблю. Но это был какой-то иной предмет. Так орут гопники в подворотнях.
– Ничто не бывает неизменным. – За время пребывания на тусовке Митя научился говорить банальности с глубокомысленным видом, но Аря его прощала. – Да, ты права, это не «Пинк Флойд» и не «Джудас Прист», даже не «ЭйСи ДиСи», но это просто другой рок. И другая музыка.
– А осетрина, как мы знаем, – парировала Аря, – бывает другой свежести.
Сначала Митя собрался на это окончательно обидеться, и особенно на неожиданно хамский тон, но потом попытался убедить ее снова:
– Они поют о том, что важно, о том, что действительно чувствуют, и говорят об этом напрямую.
Аря хмыкнула.
– Знаешь, – сказала она, – есть такие люди, особенно, к сожалению, женщины, которые не способны почти ничего почувствовать, пока не накрутят себя до нужного градуса истерики. Но, как бы тебе сказать, чтобы без обид, обычно это люди не нашего круга.
– Эти люди, которых ты презираешь, во многом лучше, светлее и талантливее тех, кого ты считаешь интеллигенцией.
– Я в этом не уверена.
После этого разговора рок-музыку они старались не обсуждать.
А потом и сам Митя относительно надолго выпал из тусовки и из этой уже почти ставшей привычной для него жизни. Сначала приблизились выпускные; их надо было сдать хорошо; многое пришлось к ним вспомнить, а кое-что и выучить. Потом были вступительные; оказалось, что и они требуют немало зубрежки, часто довольно неожиданной. Митя пошел учиться в ЛЭТИ на специальность инженера по программному обеспечению. Ученым он себя не видел, а все говорили о том, что электроника скоро будет совершать поразительные вещи. Чем точно он хочет заниматься, Митя не знал, но перспектива оказаться на переднем крае невероятных событий и удивительных достижений захватывала его воображение. А вот сама учеба на первом курсе оказалась однообразной и довольно скучной. Гораздо интереснее были студенты; кто только ни учился с ним на одном потоке, совсем разные, со всей страны и из других стран, включая не только болгар или немцев, но даже вьетнамцев и кубинцев. Пожалуй, именно тогда Митя впервые действительно ощутил себя в центре не только огромной страны, самой большой страны мира, над которой никогда не заходит солнце, но и совсем особенной страны, в определенном, но очень существенном смысле находившейся в центре этого мира, в какой-то удивительной точке, в которой собирались бесчисленные кровеносные сосуды окружающего мироздания. Ему показалось, что он впервые по-настоящему понял то немного странное, о чем дед Илья говорил с ними теперь уже так давно, тогда, на набережной.
Митя попытался заговорить о своих институтских впечатлениях и с дедом Натаном, но тот видимо поморщился. Потом подумал и все же ответил:
– Теперь стало принято говорить о Советском Союзе как об империи. И это, конечно, подмена понятий, иногда от избытка страстей, иногда от ложно понятого стремления к поэтизации, иногда от простого невежества. Но если такую терминологию все же принять, то мы живем в самой большой сухопутной империи в истории человечества. И что бы ни говорило поколение ваших родителей, история такой империи обречена быть либо эпосом, либо трагедией. Надеюсь, что трагедией она уже не станет.
– Неужели действительно самой большой? – изумленно переспросил Митя. – За всю историю?
– За всю историю, – повторил дед.
Что же касается кубинцев и вьетнамцев, то перед началом учебы и те и другие почти год изучали русский; вьетнамцы уже болтали на нем очень хорошо, а кубинцы все еще почти никак. Так же обстояло дело и с учебой. Вьетнамцы могли заниматься с шести утра до полуночи, а кубинцы приходили на лекции осоловелыми и смотрели на преподавателей так, как будто они были экзотическими животными. Тем не менее, несмотря на отличный русский, с вьетнамцами было скучно, да и говорили они в основном об уроках и домашних заданиях, а вот с кубинцами замечательно. И особенно замечательно было с ними пить. Девушки с Кубы были прекрасны, теплы и необыкновенно легки в общении. Так что скоро у Мити появилась девушка-кубинка. Городским студентам приходить в общежития было запрещено, и в особенности в общежития, где жили иностранцы, но всевозможные лазейки Митя регулярно находил. А танцевала она так, как, ему казалось, человеческое существо танцевать вообще не способно. Общаться ней было сложнее; русский она знала плохо, и совместная учеба эту ситуацию никак не меняла; знала так плохо, что Митя собрался учить испанский. Но когда он уже начал зубрить испанские глаголы, несколько неожиданно выяснилось, что параллельно с ним она встречалась еще с двумя студентами, одним кубинцем и одним нашим, из Перми. Идти к ней с претензиями было унизительно и глупо, но учебник испанского Митя забросил. В любом случае ему все больше хотелось с девушками еще и разговаривать.
Так постепенно Митя начал возвращаться в уже привычный для него мир. Теперь он был старше и чувствовал себя увереннее. Но и в городе за этот год многое изменилось; флэтов стало заметно больше, Мите стало казаться, что город буквально кишит неформалами самых разных сортов и видов. Всюду продавали самопальные книги, от «Тарзана» до пособий по практическому дзен-буддизму. Что-то похожее произошло и с роком, хотя скорее в положительном смысле. Если раньше сквозь рок рвалась слепая юная сила, разбивавшаяся о железный быт привычной советской жизни, то теперь стало казаться, что все препоны и преграды сняты и что наступившая юная весна надежды половодьем затапливает окружающее пространство. Чаще всего у Мити, как почти у всех вокруг него, это вызывало нерассуждающее чувство восторга. Но не всегда. «В каком-то смысле все это даже немного слишком», – как-то подумал он и почувствовал себя чудовищным ретроградом; никому об этом не рассказал, даже Аре. Однажды Митя обнаружил, что Халтурина перекрыта; оказалось, что идет целая процессия кришнаитов и катит свою тележку. Как обычно, били в барабаны, пели «Харе Кришна, харе Рама». Но на этот раз его окликнул кто-то из знакомых, Митя подошел поближе, и ему предложили катить тележку вместе. Он согласился, потом оглянулся и обнаружил, что слева, совсем рядом с ним, ту же самую тележку катит Урда. Теперь она была в сари, но Митю не узнала, а может, была просто погружена в медитацию.
Слоняясь по квартирникам, флэтам и впискам, Митя заново открыл для себя и раньше смутно ощущавшуюся им особую красоту ленинградских проходных дворов, обшарпанных дворовых стен, разбитых парадных и лестниц, освещенных тусклыми и одинокими желтыми лампочками, даже перевернутых мусорных баков. О них писали и пели, но только теперь Митя понял, почему именно: они оставляли человека с оголенной правдой его существования в мире, невыкрашенной, неприукрашенной, искренней и трагической. Десятки тысяч дворов, часто переходящих друг в друга, превосходящих способности памяти, оставляли воображение наедине с самим собой, с одновременной конечностью и неисчерпаемостью собственного существования; они были лабиринтом, в котором отражалась сама суть человеческой души, погруженной в город. Одно время Митя намеренно ходил из двора во двор и не мог ими насытиться. Но потом произошло то, что в проходных дворах рано или поздно должно было произойти; и короткая встреча с гопниками, хоть и окончившаяся сравнительно благополучно, одним неглубоким порезом и несколькими синяками, его отрезвила. Признавая эстетическое и смысловое совершенство ленинградских дворов и то их особое качество, которым они покоряли душу, Митя все же старался идти напрямую к нужным ему подъездам, а ошивавшуюся во дворе шпану держать в поле зрения, хотя бы бокового. Гулять по крышам было и светлее, и спокойнее.
А еще, как ему показалось, на тусовке стало больше фрилава, а может быть, это просто он, Митя, стал старше и привлекал к себе больше внимания. Он очаровывался и разочаровывался, так что его герлы, да и не его герлы, временами менялись. У него даже был недолгий роман с Рабиндранат, но почему-то и на этот раз ничего не получилось. Конечно же, его девиц не было много, совсем не столько, как у многих других вокруг; и иногда Мите становилось обидно, что им интересуются так мало. Наверное, если бы он поставил это своей целью, Митя мог бы эту ситуацию как-то исправить, но ему не хотелось никого использовать. Кроме того, довольно долго он искренне верил в то, что фрилав действительно означает свободную любовь, и одно время был даже захвачен им именно как идеей; только годы спустя он начал предполагать, что гораздо чаще это был обмен секса на внимание и статус на тусовке. Но к тому моменту возможности проверить эту гипотезу у него уже не было. А в тот год ему просто нравилось приходить на Ротонду, тусоваться стоя, пока было холодно, сидеть на ступеньках винтовой лестницы, когда потеплело, распивать со всеми, петь со всеми, и, если кому-то из девиц хотелось с ним подружиться, он не был против. В каком-то существенном смысле он не видел между ними особой разницы, радовался им всем, даже, пожалуй, восхищался, иногда был счастлив вместе с ними, мысленно со всеми, но чаще так же вместе они ему надоедали. И это тоже было частью переживания наступающих для них всех юности духа и весны надежды. Быть со всеми и ни с кем, быть для всех и ни для кого было особым, хоть и редко наступающим счастьем и особым отчаянием. И только Арина продолжала смотреть на него с тревогой и досадой. Она считала, что среди всех этих людей он очень одинок, и эта новая его жизнь со всей ее безличностью и пустотой Арине совсем не нравилась.
« 9 »
В июне почти три недели подряд у них вписывался папин племянник Лева. Институт он только что закончил, как он утверждал, «временно» нигде не работал, жил вместе со своей мамой Тамарой Львовной и в целом за ее счет, а дядя Женя подкидывал ему довольно крупные суммы на мелкие расходы. Но главное было не в этом. Лева уже был диссидентом, и не просто обычным кухонным интеллигентом, ругавшим зарвавшихся советских чиновников, а настоящим московским диссидентом. Не только вместе с мамой, но уже и сам он давал интервью иностранным журналистам, не боясь вступать в контакт даже с теми из них, кого окружали слухи, что они не только журналисты, а может быть, в первую очередь даже и не журналисты вовсе, вслушивался в их объяснения, быстро и внимательно учился тому, что следовало в таких интервью говорить, очень много читал, особенно по истории, а еще подпольно учил иврит. Уже несколько лет Митя его почти не видел; точнее, сталкивался буквально несколько раз на всяких семейных мероприятиях, да и разница в возрасте и жизненном опыте была слишком велика. Но на этот раз сложилось совсем иначе, и они с Левкой почти подружились. А еще Митю восхищали идеалисты, практически в одиночку и, как ему казалось, безо всякой надежды на удачу вставшие против огромной и практически всесильной системы. Мама восхищалась ими тоже, папа меньше, но, безотносительно к тому, в какой степени эти люди были правы, сам жест бескорыстного героизма покорял Митино воображение. Как-то, глядя на Леву, Митя вспомнил рассказ деда Ильи об их семейной легенде и Сфере стойкости и подумал, что из их семьи диссидент Лева явно был наделен ею в полной мере.
Несмотря на то что Леве мама искренне симпатизировала, его ежедневное пребывание в большой комнате, да еще, в силу планировки квартиры, частично проходной, стало постепенно казаться ей обременительным, и как-то за ужином, еще до того как Левка вернулся, она сказала им, что попытается договориться с родителями о том, что некоторое время Лева поживет у них. Места у них было явно больше; а еще в тот же вечер Аря по секрету рассказала Мите, что папа взял с Левки слово, что в Ленинграде он ничем противозаконным заниматься не будет. Так получилось, что ни бабушка, ни дедушка не видели Леву много лет и, хотя в принципе не возражали поселить его у себя, захотели предварительно познакомиться с ним поближе. Так что, даже не поставив Левку в известность, его повезли на Петроградскую на своеобразные смотрины. Мите вся эта ситуация не очень нравилась, ночевки Левки в большой комнате ему ничем не мешали, да к тому же в тот день у него было довольно загруженное расписание, а последняя пара и вообще была из числа тех, которые лучше не гулять. Так что, когда он ввалился на Петроградскую, судя по всему, разговор продолжался уже довольно долго, и Мите потребовалось некоторое время, чтобы в него втянуться. К тому же дедушка отвечал устало и, как это ни странно, не очень дружелюбно; Мите почему-то показалось, что подобные разговоры дед вел уже неоднократно и, в принципе, был знаком с большинством аргументов обеих сторон, но по какой-то причине считал нужным с Левой все же переговорить.
– Лев, поймите, – говорил он, когда Митя вошел, – вы пытаетесь поставить меня перед выбором, которого не существует и для которого нет никаких оснований. Для того чтобы любить свою страну, нет никакой необходимости любить ее палачей. Как мне кажется, с точки здравого смысла скорее наоборот.
– Но сталинизм эту страну создал, – ответил Лева; было видно, что этот аргумент кажется ему неопровержимым.
– Нет, – возразил дед. – Я знаю, что в ваших нынешних кругах принято так думать, но с исторической точки зрения это утверждение является просто ошибочным. За спиной у Советского Союза была почти тысяча лет русской и российской истории, даже хронологически он начинался совсем не со сталинизма, а с середины пятидесятых были приложены на самом деле экстраординарные усилия для того, чтобы уйти от сталинизма и создать некий синтез социализма и относительно традиционного гуманизма.
– Теперь все вдруг заговорили об истинном ленинском наследии. – Лева усмехнулся, но был непреклонен. – А по-моему, это полнейшая ерунда.
– Я бы не был столь категоричен. Сами идеи всечеловеческого братства и равенства или мысль о том, что жажда наживы разрушительна и для ее носителей, и для ее жертв, которых, естественно, всегда бывает гораздо больше, – эти идеи трудно назвать безумными. И еще труднее назвать тоталитарными.
– Но привели-то они к Гражданской войне, массовому террору, а потом к сталинизму. С этим-то вы не можете спорить.
– Лева, вы же читали книги и знаете, что к страшным и еще гораздо более чудовищным, чем наша, гражданским войнам, к сожалению, приводили многие лучшие идеи человечества. Идеи религиозной терпимости, демократического правления, республики, свободы личности, равенства, отмены рабства, да много чего еще. Все эти убийства ужасны, и в этом смысле спорить тут не о чем, но ничего абсолютно беспрецедентного для истории, требующего именно от нас проклинать и бичевать себя до конца веков, в этом нет. История и вообще очень страшная шутка, если учить ее не по «Айвенго», разумеется. А сталинизм…
– Вот сталинизм уж точно абсолютно исключителен, – ответил Лева с ощутимым ликованием заядлого спорщика. – И гораздо хуже даже нацизма.
Дед удивленно на него взглянул.
– Я первый, кто об этом вам говорит? – почти без паузы спросил Лева.
– Нет, конечно. Но я не ожидал услышать подобное от еврея. При нацизме нас ведь с вами и в живых-то не было бы. Но почему вы уверены, что хуже нацизма?
– Гитлер убивал чужих, а Сталин своих.
Дед устало выдохнул.
– Лева, вам не кажется это утверждение несколько странным? – Дед остановился, пытаясь дать Леве время подумать, но, увидев, что тот рвется в бой спора, продолжил: – Вы же критикуете советскую власть с позиций европейского гуманизма, я вас правильно понимаю?
– Да. – Лева уверенно, хотя и несколько удивленно кивнул.
– Хорошо. Значит, исходные позиции у нас общие. И при этом вы утверждаете, что невинные жертвы делятся на две категории. Тех, которых убивать лучше, потому что они чужие, и тех, кого убивать хуже, потому что они свои. Эта постановка вопроса вам не кажется несколько противоречивой?
Лева задумался.
– Вы говорите о жертвах репрессий так, как будто они простые цифры в каких-то уравнениях. Противоречиво, не противоречиво. Но допустим. Хотя мне и сложно с этим согласиться. Не хуже Гитлера, а просто как Гитлер. Что это меняет?
– Нет, и не как Гитлер, – ответил дед. – Отчего Сталин не перестает быть убийцей и изувером. Но еще Аристотель писал о том, что силлогизмов по аналогии не существует. И я могу попытаться доказать вам с цифрами и документами в руках, что порядок жертв был иным.
– Так уж и с цифрами?
Митя, до этого неожиданно для себя бывший на Левкиной стороне, подумал о том, что совсем даже Левка не сопереживает жертвам и не хочется ему, чтобы этих жертв оказалось меньше. Мите показалось, что, наоборот, Левке почему-то хочется, чтобы жертв было как можно больше. Наверное, чтобы оказаться правым. Левка был очень славным, так что этой мысли Митя устыдился и попытался отогнать ее как можно дальше.
– Частично и с цифрами. Но не только. Вы же читали лагерные воспоминания? В них почти всюду описываются относительно немногие политические заключенные, окруженные множеством уголовников. Вот вам и приблизительный процент. А общее число арестованных по уголовным делам не великая тайна. Да и точные цифры мы, скорее всего, скоро узнаем. Бюрократия тех времен была достаточно старательной.
– И вам кажется, что это можно оправдать?
– Нет, – ответил дед еще более устало, но и еще более твердо, – я этого не говорил и не мог сказать. Ни оправдать, ни простить, ни забыть это невозможно. Ни сами преступления, ни чудовищную жестокость, ни изуверства, ни безвинно погибших, ни пытки, ни атмосферу доносительства и страха. Но видеть произошедшее в исторической перспективе мы все же обязаны. Священная Римская империя вступила в Тридцатилетнюю войну приблизительно с семнадцатимиллионным населением, а вышла с десятимиллионным. За время революции и гражданской войны в Англии погибла четверть жителей, в некоторых местах даже треть. Британское хозяйствование в Индии приводило к регулярным вспышкам массового голода. Во время самого страшного из них, в восьмидесятых годах девятнадцатого века, от голода умерло почти десять миллионов человек. Вот вам и ваши образцовые просвещенные страны. И мы с вами еще не успели поговорить про Средние века; а тогда все было еще страшнее.
– Это было давно, – равнодушно ответил Лева.
– И вы считаете, что «давно» служит оправданием? Что если это было давно, то убивать, резать на куски, жечь, грабить и насиловать – это не так страшно? Довольно странная позиция для гуманиста. Хорошо, пусть будет недавно. Совсем недавняя Вьетнамская война, точнее война во всем Индокитае. Лева, там погибло более полутора миллионов человек. Это больше, чем в Освенциме.
– В основном коммунистов, – сказал Лева, на этот раз с ощутимой неприязнью. – Так что как раз там надо еще посмотреть, кто на кого напал и кто был прав. И, как бы там ни было, дальнейшую экспансию социализма американцам удержать удалось.
– В этом вы как раз ошибаетесь. Но даже если бы это было так, неужели вам кажется, что ради этого можно было сжигать напалмом сотни тысяч живых людей? Детей, женщин. И это ведь не какая-то единичная история. Я старый человек и вполне готов допустить, что чудеса в истории возможны. Но когда регулярно происходят военные перевороты, правительства расстреливают, а на следующий день победивших генералов признают законными президентами, это кажется мне не чудом, а сложившейся системой. Вероятно, эти документы мы тоже когда-нибудь увидим. По крайней мере, вы увидите. Я, наверное, все же не доживу.
– Ну что вы, в самом деле, – снова возразил Лева, – то про косоглазых, то про Африку. Вы же хорошо понимаете, что история – это Европа и Америка. А грехи… Мало ли что там было у африканских обезьян. А вот большевизм и сталинизм – это наше, наша вина, наше злодейство, нам за них и каяться. Возможно, веками. А с нацизмом пусть немцы разбираются. Да они, кажется, и разобрались.
На этот раз дед скорее вздохнул, тяжело, горько, почти измученно.
– К сожалению, нацизм – это наша трагедия даже в большей степени, чем немецкая. И по абсолютным, и по относительным цифрам.
– И в войне мы, значит, неповинны?
Лева выбрал не лучший ход; тема войны деда задевала, и Митя об этом знал.