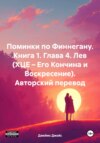Kitabı oku: «Улисс», sayfa 2
– Вот уж не знаю, право.
Он вышел не спеша.
Хват Малиган наклонился поперёк стола к Стефену и выговорил в сердцах:
– Ну, ты и ляпнул, прям всем своим копытом. Зачем ты так сказал?
– А что?– ответил Стефен.– Задача – разжиться деньгами. У кого? На выбор: молочница и он. Орёл – решка.
– Я тут ему баки насчёт тебя забиваю,– сказал Хват Малиган,– а ты всё портишь своей вшивой издёвкой, иезуитскими подковырками.
– Надежды мало,– продолжал Стефен,– и на него, и на неё.
Хват Малиган трагически вздохнул и положил ладонь на руку Стефена.
– И на меня не больше, Кинч,– сказал он.
И тут же сменив тон, добавил:
– Но если как на духу, так ты, конечно, прав. Пошли они, такие хорошие. Води их за ноc, как я. К чёрту их всех. А теперь валим из этого бардака.
Он встал, величаво распоясался и снял c себя халат, смиренно приговаривая:
– Совлечены покровы с Малигана.
Вывернул на стол всё из карманов.
– Вот твой сопливчик.
Одевая стоячий воротничок и бунтарский галстук, он болтал с ними, делал выговоры, как и висячей цепочке своих часов. Руки его нырнули в чемодан и рыскали там, покуда он аукал чистый носовой платок. Самоугрызения сознания. Боже, всего-то и делов – нарядить персонаж. Хочу пурпурные перчатки к зелёным ботинкам. Противоречие. Противоречу сам себе? Что ж, значит сам себе противоречу. Крылоногий Малачи. Вихлястый черный предмет вылетел из его болтливых рук.
– Твоя парижская шляпа,– сказал он.
Стефен поднял её и одел.
Хейнс окликнул их снаружи.
– Так вы идёте наконец, приятели?
– Я готов,– ответил Хват Малиган, направляясь к дверям.– Выходим, Кинч. Надеюсь, ты успел доесть что мы тут оставили.
Отстранённо, он вышел понурой походкой, произнеся почти с тоской:
– И он побрёл, рыдая, с горки.
Взяв свою трость, Стефен последовал за ними и, когда те двое сошли по ступеням лестничного марша, притянул неповоротливую железную дверь и запер. Увесистый ключ скользнул во внутренний карман.
У подножия лестницы Хват Малиган спросил:
– Ключ взял?
– У меня,– ответил Стефен, опережая их.
Он шёл первым. Слышалось как сзади Хват Малиган хлещет увесистым купальным полотенцем, сшибая стебли переросшие прочую траву.
– Держитесь пониже, сэр. Куда вы выперли, сэр?
Хейнc спросил:
– А за башню вы платите?
– Двенадцать фунтов,–ответил Хват Малиган.
– Представителю министерства обороны,– добавил Стефен через плечо.
Они постояли, пока Хейнс обозревал башню и, в заключение, изрёк:
– Зимой, должно быть, мрачновата. У вас её прозвали Мартеллой?
– Билли Питт их понастроил,– ответил Хват Малиганогда французы грозили с моря. Но нашу окрестили Пуповиной.
– Так в чём ваша идея насчёт Гамлета?– спросил Хейнc Стефена.
– Нет, не надо,– вскричал Хват Малиган с болью.– Мне не вынести Фому Аквинского и пятьдесят пять доказательств, которыми он подпирает свою идею. Погодим, пока я оприходую хотя бы пару кружек.
Он обернулся к Стефену и произнеc, педантично одергивая уголки своего жёлтого жилета:
– Ведь после третьей кружки ты её не сможешь доказать, а Кинч?
– Она столько ждала,– безразлично отозвался Стефен,– что может подождать ещё.
– Вы раздразнили мое любопытство,– дружелюбно сказал Хейнc.– Это какой-то парадокс?
– Фи!– ответил Хват Малиган.– Мы переросли Уайльда и парадоксы. У нас всё намного проще. Наш бард посредством алгебры доказывает, что внук Гамлета – дедушка Шекспира, а сам он – Дух своего собственного отца.
– Что?– переспросил Хейнc, возводя палец на Стефена.– Сам он?
Хват Малиган повесил полотенце вокруг шеи, словно епитрахиль и, перегнувшись в безудержном смехе, промолвил Стефену на ухо:
– О, тень Кинча-старшего! Яфет в поисках отца!
– По утрам мы крепко усталые,– пояснил Стефен Хейнсу.– Да и пересказывать довольно долго.
Вознеся руки к небу, Хват Малиган зашагал дальше.
– Лишь пресвятая кружка в силах развязать язык Дедалуса,– заверил он.
– Хочу сказать,– объяснил Хейнc Стефену, когда они двинулись следом,– что и башня и те вон скалы мне чем-то напоминают Эльсинор. Что нависает стенами над морем, так, кажется?
Хват Малиган на миг обернулся к Стефену, но смолчал. В это безмолвное яркое мгновенье Стефену привиделся он сам, в дешёвом пропылённом трауре меж их цветастых одеяний.
– Бесподобная история,– сказал Хейнc, вынуждая их вновь остановиться.
Глаза бледные, как море под свежим ветром, ещё бледнее – твердые и пронзительные. Повелитель морей, он обратил взор к югу, на полностью пустой залив, кроме тающего на ярком горизонте дымка от почтового парохода, да парусника, что менял галсы у Маглинса.
– Я где-то читал теологические толкования на эту тему,– сказал он малость растерянно.– Насчёт идеи Отца и Сына. О стремлении Сына воcсоединиться с Отцом.
Хват Малиган тут же состроил счастливое лицо с улыбкой до ушей. Блаженно распахнув красивый рот, он уставился на них помаргивающими в шалой потехе глазами, в которых разом стёр всякую осмысленность. Кивая кукольной головой, всколыхивая поля своей шляпы-панамы, он запел придурковато радостным голосом:
Спорим, что я самый
престранный паренёк?
Мама – еврейка, папаня – голубок.
Со столяром Иосифом нет общего ничуть:
Апостолы, Голгофа – вот мой путь.
Он предостерегающе поднял палец,–
А усомнишься, что я Бог и правду говорю,
Получишь шиш – не выпивку,
Kогда вино творю.
Пей воду, маловер, и мечтай о той,
Что пью, прежде чем вылью из себя водой.
Дерганув на прощанье трость Стефена, он помчался вперёд к краю скал, встрепывая руками – раскинутыми как плавники или крылья, что вот-вот вознесут его в воздух – и горланил:
– Ну, а теперь – прощайте.
Всё запишите, что сказал.
Скажите Тому, Дику, Гарри,
Что я из мёртвых встал.
От птички порождённый,
Bзлечу на высоту я,
И с небес монахам покажу всем…
Он мчался впереди них к тринадцатиметровому обрыву под взмахи шляпы окрылённой свежим ветром, что относил к ним, поотставшим, его отрывистые, как у пернатых, вскрики.
Хейнc, сдержанно смеясь, поравнялся со Стефеном сказать:
– Наверное, не следует смеяться. Всё-таки это кощунство. Хоть я и не из верующих. Но жизнерадостность, что так и плещет у него через край, делает песенку вполне безобидной, не правда ли? Как он её назвал? Иосиф-столяр?
– Баллада Поддатого Исуса.
– О,– сказал Хейнc,– так вам уже приходилось её слышать?
– Три раза в день, после еды,–сухо ответил Стефен.
– Вы ведь неверующий, не так ли?– спросил Хейнc.– Я подразумеваю веру в узком смысле. Насчёт сотворения из ничего, чудеc, Бого-человека.
– А по-моему, у этого слова только один смысл.
Хейнс остановился, вынимая гладкий портсигар из серебра, в котором взблескивал зелёный камень. Нажатием пальца он распахнул его и приглашающе протянул.
– Благодарю,– сказал Стефен, беря сигарету.
Взяв и себе, Хейнс защёлкнул портсигар. Он опустил его обратно в боковой карман, а из жилетного достал никелированую зажигалку; ещё щелчок и, прикурив, он протянул Стефену пламя огонька в раковине своих ладоней.
– Да, конечно,– сказал он, когда они зашагали дальше.– Либо веруешь, либо нет, не так ли? Лично я не перевариваю эту идею Бого-человека. Вы, полагаю, не из её сторонников?
– В моём лице,– отозвался Стефен с мрачным неудовольствием,– вы имеете жуткий образчик свободомыслия.
Он шагал в ожидании ответной реплики, волоча трость сбоку. Её оковка легко тащилась по тропе, пошелёстывая у его каблуков. Мой неразлучный друг, не отстаёт, кличет: Стеееееееееефен. Волнистая линия вдоль тропы. Они пройдут по ней сегодня вечером, возвращаясь сюда в темноте. Он разохотился на этот ключ. Ключ мой, за найм платил я. Но я ем его хлеб и соль. Отдай ему и ключ. Всё. Он захочет его. Это было у него в глазах.
– В конце концов,– начал Хейнc…
Стефен обернулся к холодно изучающему взгляду, в котором не было недоброжелательности.
– В конце концов, вы, на мой взгляд, способны добиться свободы. Лично вы, как мне кажется, сами себе хозяин.
– Я слуга двух господ,– сказал Стефен,–английского и итальянского.
– Итальянского?–переспросил Хейнc.
Безумная королева, старая и ревнивая. На колени предо мной.
– Есть и третий,–продолжал Стефен,–которому я надобен для определённых услуг.
– Что за итальянский?–снова спросил Хейнc.– О чём вы?
– Об имперской Британии,–ответил Стефен краснея,–и римско-католической апостольской церкови.
Прежде чем заговорить, Хейнс снял из-за губы волоконце табака.
– Это мне понятно,–спокойно произнес он.– Ирландец, смею заметить, должен думать именно так. Мы в Англии осознаём, что не слишком-то честно обращались с вами. Пожалуй, в этом повинна история.
Полные мощи и пышности титулы грянули в памяти Стефена победным звоном их колоколов: et unam sanctam catolicam et apostolicam ecclesiam: медленный рост и смена догм и обрядов, неспешная—как его редкие мысли—химия звезд. Символ апостолов в меcсе для папы Марцелиуса, многоголосие, антифонные всклики: а за их напевом недремный ангел воинствующей церкви разил и грозил её ересиархам. Орда обращенных в бегство еретиков с митрами набекрень: Фотий и выводок хулителей, один из коих Малиган, и Арий всю жизнь ратующий за единосущность Сына и Отца, и Валентин, отвергающий земное тело Христа, и хитромудрый африканский ересиарх Сабелиуc, твердивший, что Отец был сам своим собственным Сыном. Точно как Малиган только что сказал на потеху чужаку. Пустая насмешка. Пустота удел ткущих ветер: обезоруженье и разгром от воинствующих церковных ангелов Михайловой рати, которые всегда начеку и оградят её в схватке своими копиями и щитами.
Браво, браво! Продолжительные аплодисменты. Zut! Nom de Dieu!
– Я, разумеется, британец,–р,–раздался голос Хейнсааковым себя и чувствую. Я не хочу увидеть, как моя страна окажется в руках немецких евреев. Боюсь, это наша национальная проблема на сегодня.
Два человека стояли на краю обрыва, наблюдая: бизнесмэн, моремэн.
– Идут к бухте Баллок.
Моремэн с каким-то пренебрежением кивнул на северную часть залива.
– Там пять саженей,– продолжил он.– Всплывёт примерно в той стороне, прилив начнётся в первом часу. Сегодня девятый день.
Утопленник. Парусник курсирует по пустому заливу в ожидании когда вынырнет вспухший тюк, перевернётся к солнцу раздутым лицом, белым как соль. Вот он я.
Извилистой тропкой они спустились к уходящей в море гряде камней. Хват Малиган стоял на камне в одной рубахе, отшпиленный галстук переброшен через плечо. Молодой человек, уцепившись за выступ камня подле него, медленно, по-лягушачьи, пошевеливал своими зелёными икрами в желе глубокой воды.
– Брат твой приехал, Малачи?
– Нет, он в Вестмите. С Беноном.
– Все ещё там? Я получил открытку от Бенона. Говорит, встретил там молоденькую милашку. Фото-девочка, как он её прозвал.
– Так он её снял, а? Краткая экспозиция.
Хват Малиган присел расшнуровать свои ботинки. Рядом с выступом камня выхлюпнулся, отдуваясь, пожилой краснолицый мужчина. Он вскарабкался на камни, вода взблескивала на его темени в оторочке седых волоc, сбегала по груди и брюху, падала тонкими струйками из его чёрных обвисших плавок.
Хват Малиган посторонился, когда тот пробирался мимо и, глянув на Хейеса со Стефеном, набожно перекрестился большим пальцем.
– Сеймур приехал,– сказал молодой человек,– вновь ухватываясь за свой рог камня.– Бросил медицину и уходит в армию.
– Иди ты к Богу,– сказал Хват Малиган.
– Через неделю спечётся. Знаешь рыжую дочку Калисла, Лилию?
– Да.
– Вчера вечером выгуливала с ним на пирсе.
– Он ей впихнул?
– Это уж у него спроси.
– Сеймур – офицер мурловый,– сказал Хват Малиган. Кивая самому себе, он стащил брюки и встал, приговаривая:
– Рыжие девки охочи, как козы.
Встревоженно осёкся, ощупывая свой бок под полощущейся рубахой.
– Двенадцатое ребро пропало,– вскричал он. Я – Uebermensch. Беззубый Кинч и я – сверхчеловеки.
Он извернулся из рубахи и швырнул позади себя, где лежала его одежда.
– Идёшь, Малачи?
– Да. Подвинься в постельке.
Молодой человек оттолкнулся в воде назад и в два долгих полных гребка достиг середины гряды. Хейнс опустился на камни, покуривая.
– Идёте?– спросил Хват Малиган.
– Чуть позже,– сказал Хейнс.– Не сразу же после завтрака.
Стефен повернулся уходить.
– Я пошёл, Малиган.
– Дай-ка сюда этот ключ, Кинч,– сказал Хват Малиган,– придавить мою юбчонку.
Стефен подал ему ключ. Хват Малиган положил его на кучу своей одежды.
– И два пенса,– сказал он,– за пинту. Бросай сюда.
Стефен бросил два пенса на мягкую кучу. Нарядить, раздеть. Хват Малиган поднялся и, сцепив руки перед собой, торжественно произнес:
– Ибо грабящий нищего угождает Господу. Так говорил Заратустра.
Дородное тело нырком вошло в воду.
– Мы ещё увидимся,– сказал Хейнс, оборачиваясь, когда Стефен зашагал вверх по тропинке, и улыбаясь дикости ирландцев.
Рог быка, копыто лошади, улыбка сакса.
– В КОРАБЛЕрикнул Хват Малиган.– В пол-двенадцатого.
– Ладно,– сказал Стефен. Он зашагал по вьющейся вверх тропе.
Liliata rutilanum
Turma circumdet
Jubilantium te virgium
Седой нимб священика в ложбинке, где тот смиренно облачался. Сегодня мне уж там не ночевать. Домой тоже нельзя.
Голос протяжный, сладостный, воззвал к нему с моря. На повороте он помахал рукой. Снова зов. Коричневая зализанная голова морского котика на воде в отдалении, словно шар.
Узурпатор.
* * *
– Ну-ка, Кочрен, какой город послал за ним?
– Тарентум, сэр.
– Очень хорошо. И что?
– Была битва, сэр.
– Очень хорошо. Где?
Пустое лицо мальчика вопрошает пустое окно.
Cплетено дочерьми памяти. Но как-то же оно было, пусть даже иначе, чем сплетено. Фраза и, в нетерпеньи, всплеск неистовых крыльев Блейка. Слышу крушенье всех пространств, брязг стёкол, обвал стен и времени объятых гулким пламенем конца. Что с нами будет?
– Я забыл место, сэр. В 279-м году до нашей эры.
– Аскулум,– сказал Стефен, взглядывая на название и дату в книге с кровавыми рубцами.
– Да, сэр. И он сказал: Ещё одна такая победа и нам конец.
Фраза запомнилась миру. Сознание в сумеречной расслабленности. Холм над усеянным трупами полем, генерал изрекает перед своими офицерам, опираясь на своё копье. Любой генерал любым офицерам. Уж эти-то выслушают.
– Теперь ты, Армстронг,– сказал Стефен.– Каким был конец Пирра?
– Конец Пирра, сэр?
– Я знаю, сэр. спросите меня, сэр,– вызвался Комин.
– Погоди. Ну, Армстронг. Что-нибудь знаешь о Пирре?
В сумке Армстронга уютно уложен пакетик с крендельками. Время от времени он сплющивал их меж ладоней и тихонько проглатывал. Крошки прилипли к тонкой коже губ. Подслащенное дыхание мальчика. Богатая семья; гордятся, что их старший сын служит во флоте. Далкей, улица Вико-Роуд.
– Пирр, сэр? Пирр – пирc.
Все хохочут. Безрадостный звонко злорадный смех.
Армстронг оборачивается на однокласников; глуповато-озорной профиль. Сейчас засмеются ещё громче, зная мой либерализм и какую плату вносят их папаши.
– Тогда скажи мне,– говорит Стефен, толкая книгой в плечо мальчика,– что такое пирc?
– Пирc, сэр,–поясняет Армстронг,– это такая штука в море. Вроде моста. Кингстон-пирc, сэр.
Кто-то засмеялся снова: безрадостно, но со значением. Двое на задней парте зашептались. Да. Уже знают: так и не научились и не были никогда девственны. Все. Он с завистью смотрел на их лица. Эдит, Этель, Герти, Лили. Такие же как и они: и в их дыхании та же сладость от чая с вареньем, браслеты их позвякивают в единоборстве.
– Кингстон-пирc,– говорит Стефен.– Всё верно, неоконченный мост.
Его слова встевожили их взор.
– Как это, сэр?– спросил Комин.– Ведь мосты это через реку.
Прямо-таки Хейнсу в сборник. И некому послушать. Вечером искусно, в разгар пьянки и развязной болтовни, проткнуть наполированную броню его сознания. И что с того? Шут при дворе своего господина, которому дозволено, как презренному, заслуживать милостивой похвалы хозяина. Зачем они шли на всё это? Ведь не только же, чтоб гладили по шёрстке. И для них история была одной из прочих надокучливых баек, а их страна ломбардом.
Cкажем не грохнули бы Пирра при свалке в Аргосе, или Юлий Цезарь остался б недобитым. О них не помыслить иначе. Отмечены клеймом времени и выставлены, в колодках, в зале неисчислимых возможностей, что сами же и отвергли. Но разве им давалась возможность увидать кем они так и не стали? Или возможно только то, что происходит? Тки, ветра ткач.
– Раcскажите нам какую-нибудь историю, сэр.
– О, да, сэр. С привидениями.
– Здесь вам откуда?– спросил Стефен, открывая другую книгу.
– Довольно слёз,– сказал Комин.
– Ну, и как там дальше, Тэлбот?
– А история, сэр?
– Потом,– сказал Стефен.– Продолжай, Тэлбот.
Смуглый мальчик раскрыл книгу и ловко примостил её за бруствером своей сумки. Он декламировал стихи отрывками, поглядывая на текст:
Довольно слёз, пастух, не трать их –
Ликид, о ком печалишься, не мёртв.
Хоть скрылся он под гладью вод…
Значит всё сводится к движению, осуществлению возможного как возможного. Аристотелева фраза оформилась сквозь спотыкливую декламацию и выплыла в учёную тишь библиотеки св. Женевьевы, где, укрывшись от греховности Парижа, читал, вечер за вечером. По соседству хрупкий азиат конспектировал учебник стратегии. Вокруг меня наполненные и насыщающиеся мозги: под светлячками ламп, наколоты, чуть вздрагивают осязательные усики: а во мгле моего сознания жижа глубинного мира, дичится, сторонится ясности, отдёргивает складки своей драконовой чешуи. Мысль есть мысль мысли. Ровное сияние. Душа, по своему, и есть всё сущее: душа есть форма форм. Прихлынувшая упокоенность, необозримая, лучезарная: форма форм.
Тэлбот начал повторяться:
Святою силою Его, ступавшего по водам,
Святою силою…
– Переверни,–спокойно произнёс Стефен.– Отсюда я не увижу.
– Что, сэр?– простовато переспросил Тэлбот, наклоняясь вперёд.
Его рука перевернула страницу. Он выпрямился и продолжил, только что вспомнив. Про того, кто ходил по водам. И здесь, на их робких сердцах лежит его тень, на сердце и губах того обжоры, да и на моих тоже. Тень на разгорячённых лицах желавших подловить его с монеткой воздаянья. Кесарю – кесарево, Богу – Богово. Протяжный взляд тёмных глаз, слова-загадки, что будут ткаться и ткаться ткачами церкви.
А ну-ка, отгадай, да порезвее:
Отец мне дал семян – раcсеять…
Тэлбот впихнул захлопнутую книгу в свою сумку.
– Так скоро?– спросил Стефен.
– Да, сэр. В десять хокей, сэр.
– Короткий день, сэр. Четверг.
– Кто разгадает загадку?– спросил Стефен.
В спешке постукивая карандашами и шелестя страницами, они укладывали книги. Сгрудившись, завязывали, застёгивали сумки, тараторя весело и разом:
– Загадка, сэр? Спросите меня, сэр.
– О, меня спросите, сэр.
– Потруднее, сэр.
– Итак, загадка,– сказал Стефен.
Пропел петух
И в небе глухо
Ударил колокол
Одиннадцать раз.
Душа скорёхонько
В рай понеслась.
– Что это?
– Что, сэр?
– Ещё раз, сэр, мы не разобрали.
При повторе строк глаза их округлились. После короткого молчания Кочрен сказал:
– Что это, сэр? Мы сдаёмся.
У Стефена запершило в горле, при ответе:
– Лис хоронит бабушку под кустом.
Он встал и нервно хохотнул под эхо их обескураженных криков.
Клюшка трахнула по двери и голос в коридоре прокричал:
– Хоккей!
Они рванулись враcсыпную, выскальзывая из-за парт, скача поверх них. Умчались вмиг и вот уже из кладовой донёсся перестук клюшек, тарахтенье бутсов и языков.
Саржент, один на весь опустелый класс, медленно приблизился, держа раскрытую тетрадь. Тощая шея и торчащие вихры свидетельствовали о полной неготовности, о том же говорил и умоляющий взор слабых глаз сквозь запотевшие стёкла очков. На серой и бескровной щеке, бледное пятно кляксы свеже-влажной, как след слизняка.
Он протянул свою тетрадь. Слово "Примеры" выведено вверху. Затем шли строки кособоких цифр, а внизу корявая подпись с завитками и чернильная лужица. Сирил Саржент: его имя и печать.
– М-р Дизи велел мне переписать,– сказал он,– и показать вам, сэр.
Стефен коснулся краешка тетради. Никчемность.
– Так ты разобрался как их решать?– спросил он.
– Номер одиннадцатый и пятнадцатый,– ответил Саржент.– М-р Дизи велел мне переписать их с доски, сэр.
– Можешь их сам решить?
– Нет, сэр.
Нескладный хлюпик: худая шея, спутанные волосы и клякса на лице – ложе улитки. Но и таких любят, хотя бы та, что носила его под сердцем и на руках. Без неё мир растоптал бы его, расплющив как бескостного слизня. Она любила его жиденькую немочную кровь, нацеженную из её жил. Может в этом суть? Единственная правда жизни? Неистовый Коламбанус переступает распростёртое тело матери нести Европе свет святой веры. Её уж нет: трепещет объятый пламенем скелетик веточки, запах красного дерева и влажного пепла. Она уберегла его, чтоб не растоптали и ушла, едва побыв. Душа унеслась в рай: а на пустоши, при свете подмигивающих звезд, лис в рыжей, пропахшей грабежами шкуре, с безжалостно блестящим взором скрёб землю, прислушивался, отгребал, прислушивался, скрёб и отгребал.
Сев рядом с ним, Стефен решил пример. Доказывает посредством алгебры, что дух Шекспира – дедушка Гамлета. Скосив очки, Саржент заглядывал сбоку. Перестук хоккейных клюшек в кладовке: глухой удар по мячу и вопли на поле. По странице в церемонном танце выступали символы в карнавальной оболочке своих цифр, в странных шляпах-степенях из квадратов и кубов. Взяться за руки, переход, поклон партнеру: так: бесы фантазии мавров. Тоже ушли из мира, Авиценна и Муса Маймонид, тёмные люди лицом и движеньями, отражавшие в своих кривых зеркалах тёмную душу мира, тьму отражающую свет, непоститжимую для света.
– Теперь понятно? Сможешь другой сам решить?
– Да, сэр.
Размашистыми тёмными черточками Саржент переписал задание. В постоянном ожидании подсказки, рука его послушливо двигала переменчивые символы, лёгкая краска пристыженности мерцала под серой кожей. Amor matris: в именительном и родительном падежах. Своей немочной кровью и сывороточным молоком вскормила она его, скрывая в пелёнках от чужих взглядов.
Был таким же, и плечи покатые, и та же нескладность. Это моё детство сутулится рядом со мной. Слишком далеко от меня, чтоб положить руку хоть раз, хоть легонько. Моя и его тайны разобщены, как взгляды наших глаз. Тайны безмолвно, окаменело сидят в тёмных дворцах наших двух сердец: тайны уставшие от своей тирании: тираны жаждущие, чтоб их свергли.
Пример решён.
– Видишь как просто,– сказал Стефен, вставая.
– Да, сэр. Спасибо,– ответил Саржент.
Он просушил страницу тонким листком промокашки и понёс тетрадь обратно к своей парте.
– Хватай-ка, лучше, клюшку да бегом к ним,– сказал Стефен, идя к двери вслед за неказистой фигуркой мальчика.
– Да, сэр.
В коридоре послышалось его имя, выкрикнутое на игровом поле.
– Саржент!
– Беги,– повторил Стефен.– М-р Дизи зовёт.
Он стоял на крыльце и смотрел как нескладёха торопится к полю забияк, что пререкались пронзительными голосами. Но вот, разобравшись кто из какой команды, м-р Дизи отошёл, переступая клочковатый дёрн ногами в тугих гетрах. Он уже подошёл к школе, когда вновь заспорившие голоса позвали его обратно. Он обернул к ним свои раcсерженные белые усы.
– Что ещё не так?– протяжно закричал он, не слушая в чём дело.
– Кочрен и Холидей в одной команде, сэррикнул Стефен.
– Подождите минуту в моём кабинете,– сказал м-р Дизи,– пока наведу тут порядок.
Шагая торопливо вспять, он прокричал со старческим упрямством через поле:
– Ну, в чём дело? Что опять не так?
Пронзительные голоса вопили сразу со всех сторон: множество их форм теснились вкруг него, сверкающий свет солнца бесцветил мёд его плохо покрашенных волос.
В кабинете висел застоялый продымленый воздух, мешаясь с запахом тусклой потёртой кожи кресел. Совсем как в первый день, когда он тут уславливался со мной. Что было, то и будет. На полке подноc с монетами Стюартов, краеугольное сокровище болота: и будет всегда. А в уютненьком футляре для столового серебра, на поблекшем лиловом плюше, двенадцать ложек-апостолов взывают ко всем язычникам о мире во веки веков.
Торопливая поступь шагов через каменное крыльцо и коридор. Отдуваясь в свои редкие усы, м-р Дизи остановился у стола.
– Прежде уладим наше финансовое дельце,– сказал он.
Из внутреннего кармана пиджака он вынул блокнот обвязанный полоской кожи, распахнул, достал две банкноты, одна склеена из половинок, и аккуратно положил их на стол.
– Два,– произнес он, обвязывая и пряча блокнот.
А теперь в хранилище его золотого запаса.
Смущённая рука Стефена трогала навал ракушек в прохладной каменной ступе: рапан, морское ушко, чёртов коготь: и эта, закрученая словно тюрбан эмира, а вон епископова шапка св. Джеймса. Клад старого пилигрима, мёртвое сокровище, порожние ракушки.
Соверен упал, блестящий, новый, на мягкий ворc скатерти.
– Три,– сказал м-р Дизи, вертя в руках свою копилку-ящичек.– Удобнейшая штука. Взгляните. Тут вот для соверенов, это для шилингов, сюда шестипенсовики, полукроны. А здесь для крон. Полюбуйтесь.
Он выщелкнул из ящичка две кроны и два шилинга.
– Три двенадцать,– сказал он.– Всё верно, не так ли?
– Благодарю, сэр,– ответил Стефен, с застенчивой поспешностью собирая деньги и впихивая в карман брюк.
– Вот уж не за что,– сказал м-р Дизи.– Вы заработали их.
Рука Стефена, опять не занятая, вернулась к пустым раковинам. Тоже символы красоты и власти. Комок в моем кармане. Символы загаженные алчностью и нищетой.
– Не носите их так,– сказал м-р Дизи.– Где-то станете доставать и посеете. Купите такую вот машинку. Увидите до чего удобно.
Ответь что-нибудь.
– Моя бы часто пустовала,– произнёс Стефен.
Та же комната и чаc, та же умудренность: и я тот же. Это уже в третий раз. Охвачен тремя петлями. Пустяки. Я их смогу порвать как только захочу.
– Всё оттого, что вы не копите,– сказал м-р Дизи, выставляя палец.– Ещё не поняли, что такое деньги. Деньги это власть, ещё прочувствуете, пожив с моё. Хотя, ясно… Если б молодость знала. Как там у Шекспира? Знай лишь кошель деньгами наполнять.
– Яго,– пробормотал Стефен. Он поднял глаза от пустых ракушек к взору старика.
– Вот кто понимал, что значат деньги,– сказал м-р Дизи.– Знал, как их делать. Поэт, но вместе с тем – англичанин. Вам известно, в чём гордость англичана? Какая, в их устах, высшая похвала себе?
Повелитель морей. Его холодный, как море взгляд, на пустоту залива: повинна история: ненависти и в помине нет.
– Насчёт их империи, наверно,– ответил Стефен,– что над нею не заходит солнце.
– Ба,– вскричал м-р Дизи,– так это вовсе не англичанин. Так говорил кельт-француз.
Он постучал копилкой по ногтю большого пальца.
Добрый человек, добрый человек.
– Я оплатил свой путь, я в жизни не занял ни шиллинга. Чувствуете? Я никому не должен. Ну, как?
Девять фунтов Малигану, три пары носков, пара брюк, пара башмаков, галстуки. Карану, десять гиней. Макану, одну. Фреду Райану, два шилинга. Темплу, два обеда в ресторане. Расселу, одну гинею, Касинзу, десять шилингов, Бобу Рейнольдзу, полгинеи, Койлеру, три гинеи, миссис Макернан, за пять недель на квартире. Комок в моём кармане бесполезен.
– В данный момент, не чувствую,– ответил Стефен.
М-р Дизи расхохотался в полнейшем восторге, убирая свою копилку.
– Я так и знал,– сказал он развеселело.– Но придёт день и вы поймёте. Народ мы щедрый, но надо и справедливость соблюсти.
– Боюсь, все наши беды от любви к красивым фразам.
М-р Дизи несколько секунд упорно взирал на ладную фигуру мужчины в клетчатой шотландской юбочке над камином: Альберт Эдвард, принц Уэльский.
– Для вас я старый пень и закоренелый тори,– произнес его задумчивый голос.– Я повидал три поколения со времён О'Коннела. Помню голод. А вам известно, что оранжисты агитировали за отделение двадцатью годами раньше О'Коннела, которого прелаты вашей конфессии заклеймили как демагога?
Славная, благоговейная и бессмертная память. Постоялый двор АЛМАЗ в Армахе роскошном, увешанный трупами папистов. Охрипшие от споров верные плантаторы , в масках и с оружием. Чёрный север и истинная—синяя—библия. Стриженые сложили головы.
Стефен сделал краткий жест.
– Во мне тоже кровь бунтарей,– сказал м-р Дизи,– по материнской линии. Но я потомок сэра Джона Блеквуда, который голосовал за объединение с Британией. Все мы ирландцы – потомки королей.
– Увы,– сказал Стефен.
– Per vias rectas,– твёрдо выговорил м-р Дизи,– было его девизом. За это он и голосовал; натянул дорожные сапоги и оправился верхом в Дублин из Арда.
Чебу-ряй-дрын
Долог путь в Дублин…
Грубиян-помещик верхом на лошади, в блестящих сапогах. Добрый день, сэр Джон. Погожего дня, ваша честь… День… дня. Пара сапог трясутся рысцой к Дублину. Чебу-ряй-дрын.
– Кстати, мне это напомнило,– сказал м-р Дизи.– Вы могли бы оказать мне любезность, м-р Дедалус, при ваших литературных связях. Я тут готовлю письмо в газету. Присядьте на минутку. Осталось только концовку.
Он подошёл к столу у окна, дважды придвинулся на стуле и вычитал несколько слов с листа заправленного в пишущую машинку.
– Садитесь. Прошу извинить,– проговорил он через плечо.– Доводы здравого смысла. Минуточку.– Он зыркнул из-под лохматых бровей на черновик у локтя и, бормоча, принялся лупить машинку по тугим клавишам, порой приподымая барабан, чтобы подчистить и сдуть опечатку.
Стефен смиренно присел в присутствии принца. На стенах, удерживая наотлёт свои высокопоставленные головы, церемонно стояли обрамлённые образы давно исчезнувших лошадей: Отбой лорда Хастингса, Выстрел герцога Вестминстерского, Цейлон герцога Бьюфорда – Большой Приз Парижа, 1866. Гномы всадники сидели на них, выжидая сигнала. Он повидал, как скакали они за честь королевского флага и вливал свой вопль в рёв исчезнувших толп.
– Точка,– попросил м-р Дизи у своих клавиш.– Но неотложное обсуждение столь важного вопроса…
Куда Кренли водил меня в погоне за шальным кушем, выискивать верняковых победителей между колясок в ошметках грязи, под зазывы букмекеров из их кабинок, в трактирной вони над загаженной слякотью. Верный выигрыш – Черный Бунтарь: ставки десять к одному. Охотники за удачей, мы уносились вслед за копытами, за летящими наперегонки кепками и куртками жокеев, мимо сыромятной физиономии женщины, зазнобы мясника, что алчно вчвакивалась в дольку апельсина.
Всплеск пронзительных мальчишьих воплей донёсся с игрового поле, и трель свистка.
Ещё: гол. Я среди них, в возне их борющихся тел, в толкучке, в поединке жизни. Это про того, что ль, маменькиного сыночка? Его, похоже, затошнило? Схватки. Время добивает уцелевших, удар за ударом. Поединки, слякоть и рёв битв, застылые предсметные выблевы убитых, хряск копейных острий, прикушенных кровоточящими людскими потрохами.
– Ну, вот,– сказал м-р Дизи, подымаясь. Он подошёлк столу, скрепляя свои листки. Стефен встал.
– Я тут вкраце изложил самую суть,– сказал м-р Дизи.– Это насчёт ящура, болезни рта и копыт. Просто просмотрите. Двух мнений быть не может.