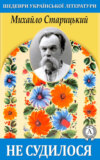Kitabı oku: «Молодость Мазепы», sayfa 14
Самойлович произнес всю эту речь сухим, деловым тоном, сладкая улыбочка и мягкое выражение глаз исчезли с его лица, наоборот, какая-то сухость проявилась в нем.
Это был уже не любезный, предупредительный молодой полковник, а человек ума практического и расчетливого, умеющий не пропустить ни малой, ни большой выгоды.
XXVII
– Я жду со дня на день от татар ответа, – послал гонцов, – ответил Дорошенко Самойловичу. – У меня есть верный побратим, мурза Ислам-Бей, он известит меня… Но пусть не теряют надежды наши «обложении»: мы вышлем им свои охотные полки. Ты здесь останешься дня два?
– Как прикажешь, ясновельможный.
– Хорошо, я передам через тебя вестку, – и, протянувши руку Самойловичу, гетман произнес с чувством, – благодарю тебя от души за твою бескорыстную верность и раденье к родному делу и к нашей особе. Не знаю, чем мне и отблагодарить тебя! О, если б у нас было побольше таких верных людей!
Что-то неуловимое мелькнуло в глазах Самойловича.
– Я всегда помню к себе ласку и зычливость его мосця, – произнес он мягким голосом, опуская глаза.
Через полчаса Самойлович уже сидел в покоях гетманши. Дорошенко отвел его к своей жене, а сам, после приема всех посетителей, отправился с Богуном и другими старшинами осматривать и устраивать прибывшие новые войска.
С самого раннего утра гетманша уже узнала от Сани о приезде Самойловича. Часа два провела она перед зеркалом, примерила чуть ли не десять кунтушей, измучила вконец Саню и, наконец, отправивши ее присматривать за коверницами, уселась с работой в руках у окна. И старания ее не пропали даром. Даже сам гетман, несмотря на то, что мысли его были заняты совсем другими справами, обратил внимание на то, что гетманша выглядела сегодня лучше, чем когда-нибудь.
И новый кунтуш, и перловое намысто, а главное, необычайное оживление придавали ее лицу какую-то особенную красоту.
Теперь она сидела на низком табурете, сложивши на коленях какое-то гаптованье, а Самойлович стоял немного поодаль, эффектно опершись рукою о спинку кресла, не спуская с гетманши глаз. Между ними шел какой-то оживленный разговор.
На губах гетманши трепетала легкая, обворожительная улыбка; глаза Самойловича то вспыхивали, то снова потухали.
– Что это пан полковник стал так часто ездить сюда? – говорила гетманша, слегка склонивши головку и разглаживая белой ручкой дорогое гаптованье.
– Дела все, ясновельможная пани, Бруховецкий посылает. А разве я уже успел надоесть ее мосци?
– Нет! – слегка вспыхнула Фрося и опустила глаза. – Пан для нас дорогой гость. Только… я подумала, – на губах ее снова задрожала лукавая, предательская улыбка, – разве у гетмана нет других верных послов?
– Послы-то есть, да, может быть, никто не ездит сюда так охотно, как я, – произнес Самойлович, понижая голос, и в нем послышалась какая-то нежная вибрация.
Гетманша чуть-чуть приподняла свои веки, сверкнула из-под длинных ресниц на Самойловича задорным взглядом своих голубых глаз и произнесла с участием:
– Так скучает пан полковник за своей родиной?
– Томлюсь и не забываю ее никогда! – вздохнул Самойлович.
– Но, сколько помню, и родители пана полковника перешли на правый берег, – что же так тянет сюда пана полковника?
– Сердце.
– Сердце? Ха-ха-ха! – рассмеялась звонким серебристым смехом гетманша. – А разве на левом берегу нет таких «знадлывых» ворожек, которые могли б залечить раны панского сердца?
– Не всякую рану залечить можно: одни заживают, а от других…
Самойлович замолчал.
– Умирают? – переспросила с лукавой улыбкой гетманша, подымая на Самойловича свои искрящиеся глаза, и снова закрыла их пушистыми ресницами. – Но, слава Богу, пан полковник на покойника не похож.
– Живут и с разбитым сердцем.
– Так не может ли пан поведать, какой это жестокий враг так «пройняв» панское сердце?
– Зачем об этом говорить, ясновельможная.
– Даже и по старой приязни?
– Даже и по старой приязни, – повторил глухо Самойлович.
Гетманша замолчала и принялась снова разглаживать на коленях дорогое шитье. С минуту в комнате царило молчанье. Не подымая глаз, Фрося чувствовала на себе жгучий взгляд Самойловича, и это доставляло ей видимое удовольствие; приятное щекотанье слегка волновало ее сердце, словно какая-то легкая бабочка трепетала в нем своими прозрачными крылышками.
– Ну, а как ваша новая гетманша-княгиня? Думаю, так хороша, что вся старшина за нею гинет, – спросила она, наконец, подымая головку и бросая на Самойловича лукавый взгляд.
– Не знаю, не замечал, – ответил небрежным тоном Самойлович.
– Как? Неужели же пан совсем не замечает женской красы?
– Только одну; для других я слеп.
– Слеп? Ха-ха! – рассмеялась тихим смешком гетманша. – О, значит пан полковник уже «добре» постарел. Прежде, сколько помню, глаза пана были зорки, как глаза степного орла.
– Пробовала ли ясновельможная пани посмотреть прямо на солнце и потом перевести свой взгляд на землю, – заговорил каким-то вздрагивающим голосом Самойлович, приближаясь на шаг к гетманше, – не видела ли она тогда всюду, куда бы ни посмотрела, только красные и зеленые пятна. Так и человек, ослепленный «коханням», видит всюду, кроме своего солнца, одни лишь темные пятна.
Гетманша вспыхнула от удовольствия.
– Ой! Господи, да какое же это солнце наделало столько бед пану полковнику? – спросила она и тут же ощутила в груди какой-то страх, какое-то замиранье.
– Какое? – спросил Самойлович глухим голосом. – Какое?
Гетманша молчала.
– То, что сияет на правом берегу, – прошептал он каким-то жарким шепотом.
Теперь пустое, легкомысленное сердце гетманши забилось усиленно и часто. Ей вспомнились девические годы. Молодой, красивый сотник, сын соседнего батюшки… недомолвленные слова… нежные поцелуи руки в зеленой чаще цветущего сада, песни, звуки казацкой бандуры. И рядом с этим, сияющим молодым счастьем воспоминанием, выплыл образ всегда занятого, всегда погруженного в свои военные «справы» гетмана, и какое-то досадное чувство шевельнулось в груди гетманши.
– Другие вон как помнят, до сих пор не забывают! – пронеслось в ее голове, – а он словно и не видит, и не замечает. Ее красота стоит большей заботы! Да и много ли она выиграла оттого, что вышла замуж за генерального есаула, какая это жизнь!
Гетманша подавила вздох, склонила голову и принялась за свою работу.
В комнате опять воцарилось молчание, со двора доносились голоса гетмана и Богуна. Самойлович не спускал глаз с гетманши.
– Что это работает ясновельможная? – произнес он, чтобы нарушить неловкое молчание; голос его прозвучал как-то сипло.
– Новое знамя для гетмана, – ответила Фрося, не поднимая глаз.
– О, как бы я желал сражаться под ним! – воскликнул Самойлович.
– Отчего же пан покинул наши войска и перешел на левый берег?
– Отчего? – заговорил пламенным шепотом Самойлович, наклоняясь над ней, – оттого, что отсюда гнала меня такая тоска, какой заглушить не могли ни меды, ни битвы, оттого, что сотник – ничто перед генеральным есаулом, оттого, что наши девчата больше смотрят на полковницкие кисти, чем на очи молодых юнаков, оттого, наконец, что если бы я теперь стал гетманом всей Украины, – мне не затушить своего горя, потому что квиточка моя уже сорвана и сорвана грубою и жесткою рукой!
Гетманша вздрогнула и закрыла глаза. Жгучее дыхание Самойловича обдало ее лицо…
Как ни рассчитывал Мазепа выехать через два дня из Чигирина, но это ему не удалось. Обстоятельства сложились так, что прошла неделя, наступила другая, а он все еще оставался в Чигирине. Прежде всего, ему надо было принять команду над своей «компанией», познакомиться со всем гетманским штатом, и это заняло довольно много времени; кроме того, едва вступивши в должность, да еще в такое тревожное время, было неловко просить гетмана о немедленном отпуске, тем более, что от татар до сих пор не было никаких известий, и гетман, весь поглощенный тревогой, ожиданием и неизвестностью будущего, словно забыл о Мазепе и о его предложении уладить дело «разумными медиациями» – и не призывал его к себе.
Как ни рвался Мазепа в Мазепинцы, а оттуда в степь, но приходилось примириться с обстоятельствами и отложить отъезд на более неопределенный срок.
За это время он успел ознакомиться с жизнью замка и с его обитателями.
О Богуне он слыхал еще раньше; любимый герой казачества всегда возбуждал в нем восторг к себе, однако теперь Мазепа слегка разочаровался в нем: гибкий, проницательный ум Мазепы, способный расчленить самый запутанный вопрос, способный, подобно подземному подкопу, проникнуть в самые сокровенные тайны души человеческой, – как-то отказывался понимать тот прямой и, как ему казалось, узкий способ мышленья, которым жили и Богун, и Сирко. Кроме того, вечно замкнутый в себе, молчаливый и сосредоточенный Богун как-то не соответствовал тому образу казацкого героя, окруженному ореолом блестящих военных подвигов беззаветной храбрости, удали и презрения к смерти, который создал себе о нем Мазепа на основании народной молвы.
– Нет, нет, – думал он про себя, вспоминая свой разговор с Сирко, – только рубить можно прямо с плеча, а для дум есть многие объездные да обходные дороги; прямо пойдешь, не сворачивая с пути, так, иной раз, и упрешься прямо в стену лбом, а свернешь хоть далеко в сторону, – смотришь и выехал снова на вольный простор.
С Самойловичем Мазепа также за это время познакомился ближе. Несмотря на бесспорный ум, искреннее желание спасти отчизну и прекрасное образование Самойловича, – он не произвел на Мазепу благоприятного впечатления. Насколько к Дорошенко Мазепу тянула какая-то безотчетная симпатия и вера, настолько это же инстинктивное чувство отталкивало его от Самойловича. Сквозь сладкую улыбочку и мягкие предупредительные манеры последнего Мазепе чувствовались какая-то хитрость и мелочная расчетливость… Однако, имея ввиду свою дальнейшую деятельность, он постарался скрыть свое внутреннее нерасположение, тем более, что в беседе с Самойловичем, способным вполне понять и оценить все его планы и предположения, он находил истинное удовольствие. Что же касается самого Самойловича, то он был в совершенном и искреннем восторге от Мазепы, от его образования и ума.
Прелестная гетманша не понравилась Мазепе, на Саню же он не обратил никакого внимания. Больше всего сошелся он с молодым и живым черноглазым Кочубеем, обладавшим каким-то особенным уменьем ловить на лету все новости; он-то и познакомил Мазепу со всей подноготной замка.
Но, несмотря на тревожное настроение всех окружающих, передавшееся и Мазепе, несмотря на ежеминутное ожидание решительного известия, могущего или разрушить все планы казаков, или вдохнуть им новую силу и энергию, Мазепу не оставляла мысль о Галине и о неизвестной казачке; последняя в силу своей таинственности начинала брать теперь перевес. Пока за Галину Мазепа был совершенно покоен; все здесь было так определено, ясно и чисто, – как тихий лесной ручеек, зато весь образ казачки, вся таинственная обстановка их встречи притягивали к себе его воображение, как притягивает к себе взор мореплавателя таинственное и неведомое морское дно.
Когда он закрывал глаза, он видел ее отважно летящую на вороном коне; когда кругом все молчали, ему казалось, он слышит ее низкий грудной голос… В глубине души он чувствовал, что эта встреча не может пройти так бесследно в его жизни… что он должен встретиться с нею… но где и когда? – Ну, хоть бы знать, кто она, где и как живет? – И тут же обрывал себя с досадой гневным восклицанием: – Ишь, баба, кое любопытство! Ну и на кой бес нужна мне она и ее имя? Галиночко, дытыно моя, тебя бы мне увидеть поскорей! – шептал он нежно, и воспоминание о Галине освежало и умиротворяло его душу, словно роса сожженные дневным зноем цветы.
Однако образ казачки нет-нет, да и снова выплывал перед ним…
Однажды, гуляя тихим летним вечером по валам замка, Мазепа передал Кочубею весь эпизод с казачкой, в надежде узнать хоть от него что-нибудь о ней.
– Да, случай знатный и непостижимый, – ответил Кочубей, – а, ей Богу, ты, пане ротмистре, родился в сорочке: ведь женщины не забывают таких услуг.
– Да кто она такая, не знаешь ли?
– А ты разве не узнал ее имени?
– В том-то и дело, что нет…
– Гай, гай! Ну, да и необачный же ты, пане ротмистре, – усмехнулся Кочубей, – как же так сплоховать?! Знал бы ее имя, можно было бы хоть на часточку подавать!
Но Мазепа не обратил внимания на шутку Кочубея.
– Да нет, ты, должно быть, слыхал что-нибудь о ней, – продолжал он, – ведь таких отважных дивчат, чтобы сами выходили на кабана, немного.
– Ха-ха! Нашел, по чем угадывать! – рассмеялся Кочубей. – Да разве у нас мало и паний, и панн этой забавой тешится? У нас не то, что в Польше, не в зале выходят панны «до мазура», а просто «на поле» (на охоту), а то и на воинскую справу, наезд одна на другую делают – вот что! А наши казачки тем паче – пороху не боятся, да и кабану, и медведю дорогу не уступят. Вот только наша ясновельможная, – понизил он голос, – не тешится этим: другой зверь у нее на уме.
– Что? Какой? – изумился Мазепа.
Кочубей нагнулся к самому его уху и прошептал, хотя тихо, но внятно:
– Самойлович.
Мазепа даже отшатнулся от Кочубея.
– Что ты говоришь? – прошептал он в свою очередь каким-то сдавленным голосом, – ты… ты знаешь это наверно?… Она «зраджує» гетмана?
– «Зраджує»! Ну, да и скорый же ты! Не «зраджує» еще, а так только заигрывает, как кошка с мышкой…
– Но как же это?… Ведь гетман всем перед Самойловичем взял: и разумом, и доблестью…
– Ха-ха! Пане ротмистре, – перебил его Кочубей, – видел ли ты когда-нибудь, как бабы соберутся в «крамныци», да начнут «саеты» да «блаватасы», да «оксамыты» торговать; одна какая-нибудь выбирает прочное да добротное, а другая говорит: на что мне его доброта? Лучше каждый год дешевенькое, да новенькое покупать. А гетман, видишь ли, все «зажуреный», да озабочен, а ей что до этого? Надо правду сказать, головка-то у нашей прелестной гетманши совсем порожняя…
– Я так и знал, от первого взгляда уже не лежало к ней мое сердце, – произнес Мазепа. – Несчастный гетман! Но чем же взял перед ним Самойлович, что тянет ее к нему?
– Видишь ли, знакомы они с ним давно. Прежде он, Самойлович, был здесь на правом берегу, ну, и спознался еще с гетманшей, когда она была дивчыной, а он сотником. Говорят люди, что он к ней и сватов засылал, только не ему ее отдали, а Дорошенко. Переважили ли Дорошенковы полковницкие кисти, или черные очи его сдались тогда ее мосци краше голубых глаз Самойловича, только пошла она за Дорошенко, а Самойловичу поднесла гарбуз, и так он с этим гарбузом отправился на тот берег к Бруховецкому. Долго он не приезжал сюда, а вот с полгода, как снова стал показываться и увиваться подле ее мосци.
– И гетман не замечает?
– Божий человек! Он верит всем, а ей, как солнцу Божьему, а уж любит так, что и сказать нельзя. Он и не видит, и не слышит ничего.
Слова Кочубея глубоко потрясли Мазепу, теперь его сердце еще больше потянуло к Дорошенко: весь благородный образ гетмана, с его открытым доверчивым сердцем, с его высоким воодушевлением и страстной любовью к отчизне встал перед ним, как живой, и рядом с ним образ умильного, но разумного и расчетливого Самойловича, способного ловить в мутной воде рыбку, показался ему еще мельче.
– Несчастный гетман! – произнес он со вздохом, – так печется о том, чтобы успокоить отчизну, а для своей души не может заслужить и малого покоя.
– Да, – произнес задумчиво и Кочубей, – «не той пыво пье, хто зарыть»… А уж от этого кохання не жди никогда добра…
XXVIII
– Да, пане, – продолжал Кочубей, обращаясь к Мазепе, – уж если кто закохается, – пиши пропало: и глухим, и слепым, и немым станет! Да вот хоть бы этот славный казак, – указал он Мазепе на выезжавшего в это время с замкового двора Богуна, – посмотри, и славою, и красою, и постатью кто с ним и теперь сравнится, а знаешь ли, почему он такой угрюмый да сумрачный?
– Почему?
– Потому что он любил третью жену покойного гетмана Богдана – Ганну, любил, когда она еще и за гетманом не была, а вот до сих пор не может ее забыть!
Кочубей замолчал, замолчал и Мазепа, следя взором за удаляющимся Богуном. Теперь образ всегда молчаливого и сосредоточенного Богуна принял в его глазах какую-то поэтическую прелесть. Он невольно старался проникнуть в тайну прошлого этого закаленного героя… Ему вспомнилась Галина… И какое-то тихое и меланхолическое чувство проснулось вдруг в его душе.
Тихие и задумчивые сошли товарищи с высокого вала и разошлись по своим делам.
Дня через два к Мазепе пришел рано утром Кочубей и сообщил ему с веселым видом:
– Ну, пане, теперь фортуна повернула уже к тебе свое колесо, – можешь просить у гетмана отпуск: гонец привез сегодня «лыст» от мурзы Ислам-Бея; верного пока еще ничего нет, но упевняет его мосць в благополучном исходе. Просись теперь скорее, а то потом, когда начнется дело, гетман уже не отпустит никого.
Мазепа не заставил повторять себе этого известия и через несколько часов вошел сам к Кочубею с веселым, довольным лицом и объявил ему торжественно:
– Еду!
После обеденной поры Мазепа распрощался сердечно с Кочубеем и Кулей и в сопровождении казаков из своей компании выехал из Чигирина.
Уже вечерело, когда путешественники прибыли к бывшему Субботову гетмана Богдана. Теперь здесь была только пустыня с бесследными развалинами. Не подымался уже голубенькими струйками дым к безоблачному небу; не слышно было ни песен возвращающихся с поля косарей, ни девичьего смеха, ни громких возгласов пастухов, ни блеянья и мычанья стад. В балках и долинах, окружавших Субботов, где ютились прежде хутора и поселки подсусидков Богдана, было теперь тихо, безмолвно и мрачно, как в могиле; все склоны их покрывали сплошные зеленые рощи, среди зелени которых кой-где еще виднелись сохранившиеся трубы хат. Мазепа въехал в бывший поселок Богдана, и тут его поразила еще больше мрачная, глухая пустота. Улицы уже не было: среди двух сплошных стен дико разросшихся садов взвивалась какая-то узкая просека, покрытая кустарником и высокою травой. То там, то сям среди дивной зеленой заросли показывались или безобразно торчащие, словно голени скелета, дымари хат, или обросшие какими-то ползучими растениями, вросшие в землю ворота; самих дворов уже нельзя было распознать, – всюду тянулся один буйно разросшийся молодой вишняк, перепутанный с лободой да полынью…
Вот что-то зашелестело, и на дорогу наперерез путникам выскочила молодая, прелестная лисичка. Посмотревши с изумлением на нежданных гостей, она круто повернула и юркнула в противоположную сторону. Из-под кустов шарахнулась стая каких-то больших птиц.
– Господи, Боже наш! – произнес тихо за спиной Мазепы один из казаков, – «селитьбы» людские жилищем дикому зверю стали!
– А давно ли так «розплюндрувалы» эти хутора? – обратился к нему Мазепа.
– Гай, гай, пане ротмистре, – отвечал казак, – только за гетмана Богдана люд Божий мирно и жил здесь, а потом, как пошли «шарпаныны» да «завирюхы», да все на этот несчастный Субботов. Сколько раз были здесь татаре, были и Опара, и Дрозденко – все скарбов гетманских искали… Терпел, терпел несчастный люд, да и стал переходить понемногу на левый берег, а все, что осталось, положил на месте зверюка Чарнецкий, за то ему, видно, и Бог собачью смерть послал: ни одного человека, ни малой дытыны в живых не оставил. Говорят, тут целый год ни проехать, ни пройти нельзя было от одного смрада непогребенных тел…
Между тем путники выехали уже из заброшенной деревни и поехали вдоль реки Тясмин, извивавшейся у подножий какой-то возвышенности, покрытой, как шапкой, зеленой кудрявою рощей.
Вот показались издали развалины одного млына, другого… Путники перебрались через остатки плотины, обогнули возвышенность и вдруг перед ними открылся обширный, опустевший двор, на котором одиноко стояли высокие, белые развалины какого-то большого каменного дома; крыши на нем уже не было, только несколько обвалившихся зубцами стен с широко зияющими оконными и дверными отверстиями подымались вверх, словно взывая к божественной справедливости.
Ни ворот, ни башен, ни окружающей усадьбу стены уже не было: деревянные постройки, видимо, все сгорели, а безобразные пепелища их давно уже покрыла густая, зеленая трава и лопухи… Только дальше еще виднелось какое-то более или менее сохранившееся здание, даже с признаками крыши, вероятно, комора.
Казаки молча остановили коней и словно онемели при виде этих величественных и грустных развалин.
– «Вот оно, Субботово, жилище славного гетмана, – думал Мазепа, не отрывая глаз от запустевшего двора. – Сколько раз ходил он здесь по этим светлицам, обдумывая свои думы, сколько пережил здесь радостей. Сколько бурь и тревог. А где сам гетман, где его славные замыслы? Останки его враны разметали, а великие замыслы потоптали друзья! Sic transit gloria mundi!» – покачал он грустно головой.
Долго смотрел так на руины Мазепа, и в сердце его начинала прокрадываться незаметно тяжелая тоска.
Наконец, его заставил очнуться голос одного из казаков.
– А где же, пане ротмистре, останавливаться будем?
– Да вот, хоть бы там, в тех руинах: там и огонь можно будет развести.
– Э, нет, там не годится, – произнес таинственно казак, говорят, что дух гетманов блуждает по руинам. Лучше там, под горой.
Мазепа согласился. Казаки отъехали к указанному месту, расседлали, стреножили коней и принялись за ужин, а Мазепа, забросивши через плечо ружье, отправился осмотреть развалины.
Взойдя на небольшой подъем, он очутился в бывшем дворе гетмана Богдана. Все покрывал теперь густой бурьян, лопух и репейник да низкорослые кусты дикого крыжовника. Нога Мазепы спотыкалась то об обросшее мохом бревно, то о камень, закрытый травой.
Солнце уже село, сквозь зияющие оконные дыры стен чуть просвечивало розовое, бледное небо. Кругом было тихо, так тихо, что даже становилось страшно… Из-за противоположной стороны выплывал полный месяц. Все было здесь мрачно, печально, как на кладбище… Тихое меланхолическое чувство охватило душу Мазепы: и в бледном румянце уже потухавшего заката ему почувствовалось что-то грустное и в самом теплом, неподвижно повисшем воздухе, казалось, веяла какая-то безмолвная печаль.
Задумчиво шел он по двору. Ему казалось, что целый рой вспугнутых его приходом теней окружает его тесной толпой. Как живой, вставал перед ним образ покойного гетмана… его убитого сына… жены, в глаза ему словно заглядывали отовсюду славные, уже почившие герои, когда-то жившие здесь: Чарнота, Ганджа, Морозенко, Кривонос.
Так дошел он до самого дома и по уцелевшим еще каменным ступеням поднялся на высокое крыльцо и вошел в развалины. Пола уже не было нигде, так что с крыльца надо было спрыгнуть вовнутрь. И здесь также, как и по двору, всюду росла высокая трава, чуть ли не жито, с торчащими изредка подсолнухами. Мазепа пошел по бывшим покоям гетмана, кое-где еще разделенным остатками стен.
Вот что-то зашелестело у его ног и мимо него, блеснув на месяце своей металлической спинкой, мелькнула длинная змея. Целая семья зеленых ящериц, вспугнутая его появлением, юркнула под большой камень… Вверху что-то захлопало: Мазепа поднял голову и увидел большого филина, глядевшего на него сверху круглыми, блестящими глазами. Ему сделалось как-то не по себе… Он прошел дом и остановился на противоположной стороне, выходившей когда-то в сад; теперь это был уже не сад, а сплошной лес, заглохший, засоренный поломанными ветвями, опускавшийся волнистыми уступами вниз. Мазепа остановился и задумался.
Причудливое воображение все вызывало перед ним образы покойной старины, ему казалось, что в глубине этой зеленой чащи уже мелькают какие-то белые тени, вот-вот и эта безмолвная руина оживет сразу, раздастся зычный голос Богдана, зашумят трубы, заржут кони, засияет огнями весь дом.
Но кругом все было тихо, безмолвно и грустно. Вдруг до его слуха донесся явственно чей-то глубокий и тяжелый вздох.
Мазепа вздрогнул с головы до ног, сердце его замерло.
– Нет, нет! Обман слуха, игра воображения! – подумал он про себя и насторожился. Прошла минута, другая, он начал уже успокаиваться, как вдруг вздох повторился и на этот раз уже совершенно явственно и недалеко.
Мазепе сделалось жутко. Ему вспомнились невольно слова казака о тени Богдана, и он почувствовал, как волосы начинают слегка шевелиться на его голове.
Кругом было безмолвно, сквозь дыры окон вливались целым столбом лунные лучи, остальная же часть развалин тонула в таинственном полумраке. Теперь Мазепе послышались отовсюду тысячи странных неуловимых звуков… Сердце его забилось с мучительной быстротой…
Однако желание узнать истину превозмогло в нем чувство страха. Мазепа прошептал про себя наскоро молитву, ощупал на себе оружие и начал тихо и неслышно приближаться к тому месту, откуда неслись вздохи.
Он остановился у другого крыльца, выходившего в сторону сада и, взобравшись на оконную нишу, с изумлением заметил не тень, не привидение, а высокого статного казака в дорогой одежде, сидевшего к нему в пол-оборота. Локти его опирались в колени, а руки охватывали склоненную голову. Вся поза казака была полна глубокого горя и отчаяния.
Мазепа хотел уйти, но ноги его словно приросли к месту. Затаивши дыхание, он замер у стены.
– Кто бы это мог быть? Или это дух бесплотный принял человеческий образ, или это плод моего воображения, или это дьявол хочет ввести меня в какой-нибудь ужасный обман? – думал он, с трудом сдерживая биение взволнованного сердца; но нет, фигура была так жизненна, что трудно было сомневаться в том, что это был живой человек.
Но вот раздался снова тихий, вздох, и затем Мазепа явственно услыхал два слова, произнесенные казаком с невыразимой тоской:
– Ох, Ганно… Ганно!…
Голос показался Мазепе знакомым. «Богун!» – мелькнуло у него в голове; в это время казак отнял руки от лица, поднял голову, и Мазепа действительно увидел освещенное лунным сияньем лицо Богуна, но теперь оно не было сумрачно и угрюмо, – выражение глубокой тоски лежало на нем. Мазепе даже показалось, что на глазах Богуна блеснуло что-то сверкающее, влажное.
Ему стало как-то неловко, словно он нарочно открыл и подсмотрел тайну Богуна; чувство глубокого уважения к чужому горю охватило его, и так же тихо и осторожно, как он вошел в будынок, он постарался и выйти из него.
Полная луна уже обливала своим сиянием и рощу, и развалины, и одичалый двор.
Мазепа шел тихо, охваченный сам какой-то безотчетной грустью. Вдруг ему показалось, что в стене коморы, стоявшей в отдалении, мелькнул красноватый огонек.
– Что это, пригрезилось мне или нет? – протер он себе рукой глаза, но нет, огонек действительно виднелся; при зеленоватом лунном сиянии он казался яркой красной звездочкой. Это явление очень заинтересовало Мазепу; он повернулся и направился к полуразвалившемуся зданию. Подойдя к нему ближе, Мазепа заметил действительно небольшое окошечко, затянутое пузырем, откуда и выходил красноватый свет, а возле – небольшую дверь, за дверью раздавался звук чьих-то тихих голосов.
Мазепа решился войти и, подойдя к двери, тихо постучал в нее. Тотчас же разговор утих, послышался звук шагов, кто-то подошел к двери, и тихий шамкающий голос спросил:
– Это вы, пане полковнику?
– Нет, человече добрый, это я, – отвечал Мазепа, – ротмистр надворной команды гетмана Дорошенко, Иван Мазепа, ищу ночлега.
Какой-то подавленный крик раздался за дверью, что-то с шумом упало на пол, огонь в окошке погас.
Мазепа хотел снова постучать в двери, но в это время за ним раздался громкий голос:
– Кто ты, человече, и зачем пришел сюда?
Мазепа повернулся, перед ним стоял Богун; они стояли теперь так, что луна освещала лицо Мазепы, оставляя Богуна в тени.
– Это я, пане полковнику, Иван Мазепа, – произнес он и, видя недоумение Богуна, прибавил, – разве пан полковник не узнает меня?
Богун действительно, казалось, не узнавал его.
– Ты? – переспросил он. – Но каким же образом ты появился? Что ты делаешь здесь?
Мазепа объяснил ему, что едет домой, остановился с казаками под горой на ночлег, а сам пошел осмотреть руины и, заметивши свет в окошке, подошел сюда.
– А, вот оно что! – произнес Богун. – Ну, если уж тебя привела сюда доля, так заходи и посмотри, как теперь у нас на Украине люд Божий живет, – и, обратившись к кому-то, скрывавшемуся за дверями, он произнес громко: – Открывай, открывай, Кожушок, это свой человек.