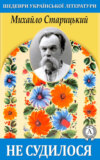Kitabı oku: «Молодость Мазепы», sayfa 17
XXXIII
Кроме желания увидеть поскорее Галину и устроить им всем безопасное пребывание в Трилисах, в глубине души Мазепы ютилось еще одно тайное желание: заехать в тот лес, в котором он встретился с незнакомой казачкой, и разузнать, не ведет ли из него куда-нибудь дорога? Лес лежал как раз по дороге, так что проминуть его нельзя было, да и Мазепа хорошо запомнил и его вид, и его название, так что на четвертый день после выезда из Чигирина путники уже были на его опушке, на месте прежней стоянки. Хотя время было еще раннее для стоянки, но Мазепа велел остановиться на отдых, и пока люди занялись приготовлением пищи, он, едва сдерживая свое нетерпение, направился сам в лес.
Однако поиски его были совершенно напрасны: чем дальше шел он, тем больше сбивался с пути: все полянки, все заросли и обрывы были так похожи между собой, что, казалось, не было решительно никакой возможности найти ту лощину, в которой он встретился со своей незнакомкой; лес же был так велик, что надо было очевидно употребить не менее трех, четырех дней, чтобы осмотреть его хорошенько. Проходивши так бесплодно до поздней ночи, Мазепа решил, наконец, возвращаться назад. Досада на потерянное даром время разрасталась в нем все больше и больше, а к этой досаде примешивалось еще более острое чувство угрызения совести и недовольства собой.
Зачем он остановился в этом лесу? Зачем он ищет дорогу, по какой ускакала казачка, зачем он ищет ее? Едет к своей бедной, дорогой голубке, спасшей ему жизнь, ожидающей его, изнывающей от тревоги, тоски, и тратит время в поисках какой-то незнакомой и ненужной ему девчины, тогда как каждый день промедления может угрожать жизни его Галине!
– О, неблагодарное, бездушное животное! – повторял себе с гневом Мазепа, шагая с какой-то злобной поспешностью назад.
Однако, возвратиться было не так легко, как углубиться в чащу леса. В лесу стало совершено темно, луна еще не всходила, или стояла так низко, что не могла освещать глубины его; с трудом выбирая себе дорогу, рискуя ежеминутно упасть в какое-нибудь «провалля», Мазепа должен был поневоле замедлить свои шаги. Чем дальше шел он, тем труднее становилось ему подвигаться вперед. Несколько раз он снова возвращался назад, несколько раз ему казалось, что он все колесит вокруг небольшого пространства; беспокойство уже начинало охватывать его. Ночь становилась темной, мрак внизу, среди высоких, сплевшихся вершинами деревьев, казался уже непроглядным: можно было каждую минуту не только угодить в какую-либо яму, но просто расшибить себе о ствол дерева лоб, или выколоть о сухую ветку глаза. Мазепа остановился. Он выстрелил раз и потом через некоторое время – другой; эхо повторило далекими перекатами его выстрелы, но не принесло ему никакого ответа: очевидно, он зашел так далеко в чащобу, что звуки его выстрелов не долетали до места стоянки.
Что же было предпринять дальше? Ждать ли до света, или двигаться наобум? Но куда двигаться? Ведь каждый шаг мог отдалять его еще больше от места стоянки. Мазепа решился взобраться на высокое дерево и попробовать оттуда осмотреть окрестность; он влез на ближайшую сосну. Невысоко над горизонтом среди разорванных туч стоял зеленоватый серп луны; тусклый свет ее слабо освещал окрестность. Кругом до самого горизонта тянулась темная волнистая поверхность, только в левой стороне серела какая-то узенькая полоска. Мазепа стал всматриваться, и ему показалось, будто вдали блеснул огонек…
Опушка и стоянка! – решил он, и стал слезать вниз, боясь потерять направление; когда он опустился ниже шапки леса, то ему почудился какой-то вой или стон пугача. Он торопливо стал переступать ногами с ветки на ветку, но когда опустился до голого ствола, откуда уже можно было спрыгнуть на землю, то его поразило, что в недалеком расстоянии от сосны светилось полукругом множество зеленовато-огненных точек.
– Волки! И ружье мое под деревом! – пронеслось молнией в его голове и заставило вздрогнуть всем телом. Он чуть не сорвался с сучка вниз, но удержался и порывисто стал подыматься вверх, на более прочные ветви… К несчастью он второпях зацепился полой жупана о выдавшийся сук, напоролся на него и не мог никак ни оторвать полы, ни отломать сучка: ветка, за которую он держался руками, была непрочна и гнулась при более сильном нажиме… Ничего больше не оставалось, как приладиться как-нибудь в этой неудобной позе полураспятого… Волки, заметя ускользавшую от них добычу, пришли в бешеное волнение: они уселись тесным кружком вокруг дерева и начали выть, бросаясь иногда в бессильной злобе друг на друга… Наконец, ярость стаи была возбуждена до того, что волки стали бросаться на дерево и грызть в остервенении его ствол…
Мазепе было трудно держаться; он чувствовал, что члены его деревенели от напряженной позы, а руки уставали сдерживать на отвесе всю тяжесть. Он пробовал несколько раз изменить свое положение, но ветвь начинала трещать, а разъяренная стая приходила от этого в неистовство… Мазепе казалось, что уже близки те минуты, когда он сорвется вниз и заставит падением своим отскочить в сторону этих хищников… но через миг они набросятся все на него со злобным рычанием и начнут терзать его тело… И ведь долго будешь чувствовать, как острые зубы впиваются в тело и отрывают от него кусок за куском… особенно должно быть будет чувствителен первый кусок… Мороз побежал по спине Мазепы… Погибнуть и такой глупой, пошлой смертью! – путались в его голове мятежные мысли. – И где теперь мои мечты послужить отчизне? Где слово, данное гетману, исполнить его поручение? Где клятва, данная матери? Бессмысленная судьба тяготеет над ним и бросает его от одной смертельной опасности к другой… Он какая-то безобразная игрушка в руках судьбы! И вспомнилось ему живо, как он в такую же темную ночь летел привязанный на коне; испуганное животное мчало его вихрем; ветер свистел в ушах, в голове отдавались глухими ударами толчки от бешенного бега коня, веревки врезывались в тело… И вот лес черный, дремучий… мелькают гигантские стволы, налетают, чтобы разбить его голову, хлещут ветвями… Он молит Бога, чтобы скорее кончились его страдания, но конь инстинктивно скользит между деревьями и охраняет его муки… и вдруг сотни светящихся точек погнались, вот они сзади, направо, налево, несутся роем удлиненных теней… Но конь напрягает силы, вылетает на опушку и, лавируя между пересекающими ему путь волками, успевает броситься в какую-то довольно широкую реку и уплыть от преследователей…
С каждой минутой истощались силы Мазепы… руки его разжимались, ноги скользили по ветви, еще минута, и он сорвется… «конец, так конец», – мелькнула последняя мысль… и он выпустил из рук ветку… Ни тело при этом не сорвалось вниз, а только обвисло и село на сук: оказалось, что не только пола, а и «велеты» его кунтуша были прорваны острием торчавшей выше ветви и удерживали его на весу. Инстинктивно охватил тогда Мазепа руками дерево и уселся верхом на сучке, так ему было гораздо удобнее и покойнее…
Впрочем, это было только небольшой отсрочкой; волки преспокойно разлеглись вокруг дерева, видно было, что палачи решили терпеливо ждать своей жертвы… Ночь проходила; лес начинал сереть и синеть, но стая не разбегалась. Вот и верхушки соседних деревьев зажглись, но и это, видимо, не встревожило голодных гостей…
Мазепа изнемогал, бессонная, ужасная ночь, физические страдания и душевные пытки истерзали его, голова у него начинала кружиться, в ушах стоял звон, и он посматривал с ужасом, куда он должен будет упасть, как вдруг заметил, что волки начали вскакивать, тревожно настораживая уши. По лесу раздались вдали едва слышные крики… Еще мгновение, и стая шарахнула со всех ног и исчезла в дальних чащобах. В это же самое мгновение Мазепа уже не смог больше держаться на дереве: рукава его давно уже оборвались и не поддерживали, так что он в последнее время держался лишь силою мускулов, но они ослабели вконец, и он сорвался; на минуту замедлила его паденье пола, но она не выдержала всей тяжести и оборвалась.
Мазепа упал и, благодаря последнему обстоятельству, не расшибся, но все-таки от чрезмерного напряжения он потерял сознание и долго пролежал так, не слыша приближающихся голосов… Они бы так и удалились, не найдя его, если бы, случайно не набрел один казак на Мазепу. На его крики сбежались товарищи и привели в чувство своего ротмистра. Выпивши несколько глотков «оковитой», он пришел в себя, вспомнил ужасы пережитой им ночи, но никому из них не признался, а объяснил свое болезненное состояние крайним изнурением, свалившим его с ног.
Он сел на коня и, шатаясь в седле, едва доехал до стоянки; в дальний путь Мазепа не тронулся, решив отдохнуть.
Усталый, измученный, раздосадованный и на себя, и на все на свете, растянулся он на разостланной для него бурке и сейчас же заснул мертвым сном.
Только поздно вечером проснулся Мазепа, а на рассвете, совершенно уже оправившись, двинулся в путь.
Было прелестное осеннее утро, мягкое и теплое, но нежаркое; небо задергивал тонкий и прозрачный, как дымка, белесоватый туман; в воздухе было тихо, неподвижно; пахло прелым листом. В несколько минут все сборы были окончены, и путники, не заезжая уже никуда, отправились прямо «на кресы», в дикие поля.
Чем дальше подвигался вперед Мазепа, тем больше разгоралось в нем желание увидеть поскорее Галину. Все заботы и мысли о будущем, отчизне, – все отошло теперь назад, оставив место милой дорогой девушке, так долго забываемой им для них. Мазепа торопил своих спутников, но двигаться еще скорее не было никакой возможности.
Так как хутор Сыча лежал в стороне от всех шляхов и было невозможно отыскать его на степи, то Мазепа решил отыскать, прежде всего, устье Саксагани, а потом и направиться прямо вверх по ее течению. Однако, хотя старый Лобода и знал дикие поля, – но на эти поиски пришлось употребить немало времени. Поколесивши вдоволь по степи, казаки нашли, наконец, устье Саксагани. Теперь уже всякие сомнения и тревоги покинули Мазепу: надежда на близкое свидание наполняла его сердце неизъяснимым блаженством. Хотя он и не знал, как далеко от устья Саксагани отстоит хутор Сыча, но, судя по тому, что речонка начинала все больше суживаться, он заключил, что хутор должен был быть уже недалеко. Завидя какую-либо могилу или островок белых лилий на речке, он стремительно скакал вперед и видел снова все ту же бесконечную степь. Так прошел один день, другой, наконец, на третий день утром рано, отъехавши верст десять от последней своей стоянки, Мазепа выехал на невысокую могилу и к величайшей своей радости заметил вдали на горизонте густую группу уже пожелтевших деревьев, среди листвы которых просвечивало что-то белое.
Невольный крик восторга вырвался из груди его; спустившись с могилы, Мазепа пришпорил своего коня и понесся вскачь к видневшемуся вдали «гайку».
Конь несся птицей, и вскоре перед Мазепой вырисовалась уже совершено ясно открытая с этой стороны котловина и разукрашенная всеми красками осени густая роща. Вот среди желтых, зеленых и багровых листьев мелькнуло что-то белое, еще раз и еще… и перед глазами Мазепы выступила уже совершенно ясно беленькая хата, высокий частокол, ворота, клуня…
Не было сомненья – это был хутор Сыча.
Мазепе показалось, что сердце его разорвется от бурного прилива радости.
– Галина, Галина! – закричал он, сбрасывая шапку и махая ею над головой, словно девушка могла услышать на таком расстоянии его голос. Еще, еще несколько минут, и вот он въехал под тень рощи, вот пронесся мимо вишневого садика, окружавшего хуторок, вот мимо него промелькнул высокий частокол, и, наконец, усталый запенившийся конь его остановился у ворот.
Ворота были заперты.
Какое-то неприятное предчувствие шевельнулось при виде этого в душе Мазепы.
– Да что это в голову лезет! Дид с рабочими, очевидно, на поле, а баба с Галиной заперлись, – успокоил он тут же себя верным соображением и, не вставая с коня, закричал громко:
– Гей, Галина, Галина! Открывай ворота! Принимай гостей!
Прокричавши эти слова, Мазепа замер в счастливом ожидании… Лицо его улыбалось, на глаза набегало что-то влажное… вот-вот раздастся звонкий голосок Галины, легкий звук, ее шагов, распахнутся ворота, и… но кругом все было безмолвно.
Мазепа прождал еще мгновенье… Ни звука! Страшная мысль шевельнулась в его душе.
– Галина, Галина! Гей, кто там?… Отворите же ворота! – закричал он еще громче и снова замер в ожидании ответа. За воротами все было мертво и безмолвно. Холодный ужас охватил сразу Мазепу. – Татары! – промелькнуло у него в голове; но кругом все было в таком образцовом порядке. Ни следа пожара, или разоренья, или какого-нибудь насилия не видно было кругом.
– Что ж это значит? Умерли они все? – Не останавливаясь дольше на этой мысли, Мазепа соскочил с коня и, подбежав к воротам, начал стучать в них со всей силы.
Ответа не было.
И вдруг словно молния ударила перед Мазепой: ему вспомнились все те рассказы об ужасных поветриях, от которых вымирали целые семьи; какой-то необыкновенный холод пробежал по всему его телу и в то же мгновенье все как-то оборвалось в его душе… Как безумный, принялся он стучать в ворота, выкрикивая то имя Галины, то бабы, то Сыча.
Сколько времени прошло в его криках, он не мог дать отчета.
Вдруг за воротами послышался явственно какой-то шум; Мазепа замер от тревоги, радости, надежды и боязни ужасной вести. Да, это были шаги, но шаги мужские.
– Что? Живы? Здоровы? Это я, Мазепа! – закричал невидимому человеческому существу, приближавшемуся к воротам, но ответа опять не последовало.
Снова смертельный ужас охватил Мазепу; но вот ворота распахнулись, и перед ним показался Немота. Завидев Мазепу, он с радостным мычаньем бросился к нему навстречу, Мазепа не обратил внимания на его приветствие.
– Галина? Умерла? Умерла? – закричал он каким-то безумным голосом, хватая Немоту за руки.
– Мм… мм! – замычал глухонемой, замотавши отчаянно из стороны в сторону головой.
Значит, больна… лежит без присмотра… без призора, – говорил Мазепа и, – не расспрашивая дальше Немоту, он бросился вихрем в хату.
Кругом все было тихо, безлюдно. Заглянувши в пекарню, Мазепа бросился в ту светлицу, где лежал он сам – здесь та же ужасная, леденящая пустота. Не понимая, что он делает, Мазепа бросился, как безумный, в сад, затем в клуню, за ворота и снова во двор – никого не было кругом!
Немота все время старался поспешать за ним, но не мог никак догнать его. Наконец, Мазепа вернулся снова в хату и измученный повалился на лаву.
Все здесь было так, как и тогда, даже засушенный венок на иконах, даже свежие рушники на окнах. Но, Боже, какая ужасная перемена произошла с тех пор! Тогда кругом все сияло весною и счастьем, а теперь в окна смотрит хмурая осень, тогда эту скромную хату оживлял звонкий, серебристый голосок Галины, наполняя сердце Мазепы неизъяснимым блаженством, а теперь как мертво, как страшно все кругом!… А Галина, Галина!… Где она? Что случилось с нею? Куда делись они все? Умерли, погибли? Татары увезли? Ляхи? Что же сталось с ними?! Как безумный, сорвался Мазепа снова с места, но почувствовал в это время на плече своем чью-то руку. Перед ним стоял тот же немой.
– Умерла, умерла? – закричал снова Мазепа, впиваясь пальцами в руку немого.
– Мм… мм… – замычал Немота и замотал отрицательно головой.
– Жива!? – вскричал радостно Мазепа. Немой закивал утвердительно головой.
– Но где же она? Где все остальные?
Немой замахал рукой куда-то в сторону.
– Уехали? Да? Но куда? – схватил его снова за руку Мазепа. Немой пожал плечами и снова замахал и рукой, и головой. Мазепа схватился за голову; что было делать? Как узнать истину? Из знаков этого несчастного он мог уяснить себе только то, что они уехали куда-то далеко.
– Зачем уехали? Как уехали? – засыпал он снова вопросами немого.
Немой прижал руки к лицу и сделал вид, что он горько плачет.
Сердце замерло у Мазепы.
– Плакала? – вскрикнул он. – Галина, да? Она плакала, не хотела ехать? Боже! Значит, увозили насильно, против воли… Стой! – Они сами поехали?
Немой закачал отрицательно головой. Мазепа почувствовал, что все мешается в его голове.
– Значит, увезли, да?
Немой закивал утвердительно.
– Но кто же? Кто? Скажи! Татары? – Нет? Запорожцы? Нет? Ляхи? Москали? Нет, нет! Так кто же? Знак, знак, хоть знаком!… – закричал он, сжимая до боли руки немого и впиваясь глазами в его обезображенное лицо.
Немой быстро замахал руками, то, прикладывая их к голове, то к подбородку, то опуская, то вытягивая, то подымая их.
– О, Господи! – простонал Мазепа, опускаясь в изнеможении на лаву: движения и знаки немого были совершено непонятны для него.
XXXIV
Быстро надвигались неприглядные осенние сумерки. Какая-то мгла окутывала и большое село, раскинувшееся в широкой балке, и все окрестности серой пеленой; пахло дымок и горелой соломой.
В большой просторной хате, стоявшей на краю села у грязной дороги, потоптанной конскими ногами и широкими колесами возов, ярко светились окна красноватым, расплывавшимя сквозь туман огоньком. Этот заманчивый, приветливый огонек словно манил под кровлю высокой хаты каждого путника; усталого, продрогшего, измученного ездой по этой разбитой грязной дороге, обещая ему теплый очаг, кружку доброго меда и приятную компанию. За последнее ручались нагруженные мешками возы с понурыми волами, стоявшие подле корчмы и кони, привязанные у высокого столба, вбитого при входе.
Действительно, в корчме собралось немало народа. Большую светлицу с затоптанным глиняным полом и потертыми стенами слабо освещал стоявший на прилавке «каганець». У грубых деревянных столов, расставленных в светлице, сидело душ десять поселян; одеты они были в грубые свиты, но кое-где среди них виднелись и поношенные казацкие жупаны. Большая часть поселян были уже «дядькы», пожилые люди, но тут же, немного в стороне, сидели и два молодых казака: один из них был красивый, молодой, чернявый парубок с быстрым взглядом и оживленным лицом; другой – с круглым добродушным лицом и небольшими вечно смеющимися карими глазами.
Был в корчме еще один посетитель, но его или не замечали собеседники, или он был настолько ничтожной личностью, что на него никто не хотел обращать внимания, – последний сидел один, неподвижно в углу подле прилавка, почти совсем закрытый высокой «фасою» с таранью и бочонком пива. Одет он был в длинную керею с нахлобученным на самые глаза капюшоном, так что лица его нельзя было рассмотреть, только из-под темного капюшона мелькал иногда пытливый внимательный взгляд его темных глаз. Судя по внешнему облику, его можно было принять за какого-нибудь купца средней руки. Одежда его была вся в грязи; высокие сапоги покрыты были также комьями грязи, видно было, что путник ехал откуда-то издалека. Хотя собеседники совершенно не замечали его присутствия, но путник относился не так равнодушно к ним и к их беседе: перед ним стояла давно забытая кружка меда, а сам он внимательно прислушивался и присматривался ко всему, происходившему в шинке.
Слабый свет каганца тускло освещал довольно обширное помещение, наполняя углы его дрожащими тенями. Перед каждым из гостей стояли оловянные стаканы, глиняные кружки и другая винная посуда; синий дымок от коротеньких «люльок», которые «смокталы» поселяне, стлался под потолком. В хате было душно, пахло горилкой, дегтем и тютюном; однако эта атмосфера ничуть не стесняла собеседников, так как между ними шел весьма общий разговор.
– Так-то так, панове, пора нам «обрядытыся» да обдуматься, неладное что-то затевается кругом, – говорил степенно один из поселян с длинными пестрыми разношерстными усами и коротенькой «люлькою» в зубах, – выходит, что уже невтерпеж, слышишь, не «чутка», а правда, что Москва отдала Киев ляхам на вечные часы.
– Кто говорил тебе? Откуда услыхал, Гараську? – перебили его вопросами соседи.
– «Кто говорил тебе? Откуда услыхал, Гараську?» – передразнил их флегматичный оратор, не выпуская «люлечкы» из зубов. – Уж я не баба, из «очипка» новины не вытяну, коли говорю, так, значит, знаю… А не только, говорю вам, отдадут, а ляхи повернут сейчас все церкви и св. Киево-Печерскую лавру на свои костелы, а святых «ченцив» и всю братию, чуешь ты, выгонят «паличчям» из всех келий!
– Ох, ты, Господи праведный, да как же это так, панове? Да неужели же мы это допустим? – заволновался сосед первого поселянина, невысокий худощавый дядько с светлыми усами, бледно-голубыми глазами и каким-то чахоточным румянцем впалых щек. – Нельзя нам без Киева быть. Нельзя отдать на поталу печерские святыни!
– Стой, дядьку! Не турбуйсь! Без Киева не будешь! – закричал насмешливо молодой чернявый казак, сидевший со своим товарищем за отдельным столом. – Гомонят кругом люди, что не только Киев, а и весь правый берег и всех нас здесь на левом берегу хочет Москва ляхам отдать, – стало быть, с Киевом.
– Правда, правда, – поддержал другой сосед Гараськи, широкоплечий смуглый мужик, – проезжали здесь гости с правого берега, так молвили, что у них всюду, во весь голос люди говорят, что постановили ляхи истребить весь наш народ! Вот оно что!
– А мы-то, как бараны, что ли, будем ждать, пока нас в резницу не погонят! – стукнул с силой об стол оловянной кружкой один из слушателей, черноволосый мужик средних лет, с угрюмым взглядом и синим, густо заросшим подбородком, – как же это, не «пытаючы», нас ляхам отдавать? Гетман Богдан, когда задумал под Москву отдаться, всех нас на Переяславскую раду скликал!
Гарасько сплюнул на сторону и произнес скептически:
– Нашел что вспомнить, Волче! То ж было за Хмеля, а теперь, видишь, без нашей «порады» обошлись.
– Да не будет же так! Ведь мы не скот какой бессловесный и переяславские пакты тоже добре помним! – продолжал горячиться один из собеседников, по прозвищу Волк.
– Ox, ox, ox! – простонал седой дед, – что нам теперь эти пакты помогут «не поможе», говорят, «баби кадыло, колы бабу сказыло».
– Уж коли это так, так что ж тут поделаешь? Умирать всем, да й годи! – раздались со всех сторон возгласы и вздохи.
– Да стойте, стойте, панове, может, это еще все и брехня, не к вам речь! – заговорил светлоусый сосед Гараськи, стараясь напрячь сильнее свой слабый голос. – Ну, как-таки выдумать такое, чтоб «выстынать» весь христианский народ? Это, ей Богу, понапрасну… Чтоб Москва на такое пошла… Николы зроду! Под Москвой вон слободчанам как добре живется, как у Христа за пазухой!
– Эт! Ну, тебя к Богу! – перебил его с досадой Гарасько и даже вынул «люльку» изо рта. – Ужели ты такой и до осени доходишь, а когда же твоя голова разумом наливаться начнет?
Вовна хотел, было, что-то возразить, но приступ сильного кашля захватил его дыхание, он ухватился рукой за грудь и перегнулся над полом, а Гарасько продолжал дальше:
– Значит, правда, когда кругом все полки бунтуют! Слыхал, думаю, что сделали переяславцы? Да и нежинцы с гетманом «не вельмы смакують», да и промеж киевлян «гиль» завелась.
– Везде, везде! Слышно, что-то недоброе творится, – подхватили кругом голоса.
– Говорят, что гетман хотел с войском выйти, да побоялся, чтобы казаки его не убили! – вскрикнул Волк.
– И «заробылы б соби у Бога шану, и у людей дяку!» – сверкнул глазами черноволосый казак. – Какой он нам гетман? Не гетман он, а здырщик и кровопийца! Обдирать только весь народ умеет, а как до дела дойдет, так «заховаеться» в своем замке, как гриб в траве.
– Ох, что, правда, то правда! – заговорил с трудом Вовна, отирая слезы, выступившие от напряжения на глаза. – Мучитель, это он сам все творит, а на Москву только сворачивает…
– Все через него, все, – продолжал с озлоблением Волк. – От гетманской науки и все наши беды, несчастья пошли: сперва он Москве всеми нашими городами да селами ударил, а потом назвал сюда воевод да ратных людей, чтоб легче было нас обдирать, а потом насоветовал еще Москве всех нас в неволю отдать…
– Верно, верно, – поддержал его черноволосый казак, – и гетман Дорошенко говорит, что все это по наущенью Бруховецкого сталось. Я сам его универсал читал.
– Ох, ты, Господи? Да что ж с нами будет? Послать на Сичь, что ли? – раздались среди слушателей встревоженные восклицания.
–Хо-хо! Нашли на кого надеяться! – возразил Гарасько, – да ведь теперь по этому самому договору и над Сичью нашей два хозяина стоят…
Все смущенно замолчали.
– Так что ж нам делать? Ведь смерть страшна, панове! – произнес кто-то робко в толпе.
– А то делать, – произнес Гарасько, понижая голос и наклоняясь к своим слушателям, – что делают и кони, когда их уже через меру затянут мундштуком.
– А что ж, Гарасько правду говорит, панове, – заговорил первым Волк, – что ж нам так сложа руки поджидать, пока заберут у нас все, а самих нас с детьми и женами погонят в неволю к ляхам?
– Да стыдно нам тогда будет и зверю дикому, и птице малой глянуть в очи, – вскрикнул горячо молодой казак, – зверь дикий не дается «жывцем» в неволю, птица малая защищает от напастников свое гнездо, или мы хуже «крукА», хуже лиса, хуже малого горобца?!
Но, несмотря на его горячий возглас, большинство крестьян угрюмо молчало, уставившись глазами в землю.
– Ох-ох-ох! – простонал, наконец, Вовна, придерживая рукой свиту на груди, – ничего б доброго из этого не вышло, братове, только б еще хуже «пошарпалы» нас. Сколько уже натерпелись мы через все эти бунты?
– Береженого, говорит пословица, и Бог бережет, – поддержал его старик.
– Где нам от их отбиться! – прибавил еще кто-то из толпы.
– Так что же так пропадать, что ли? «Втик не втик, а побигты можна», – вскрикнул Волк, – ведь больше копы лыха не будет, а может, Бог поможет, и избавимся от напастников?
– Куда нам! Их сила, а мы что? – произнес угрюмо смуглый, широкоплечий сосед Гараськи.
– Да ведь не сами же? А разом… гуртом, – возразил Гарасько, – вы только прислушайтесь, что кругом делается! Кругом шевелится люд, собираются в «купы», запасаются боевым припасом.
– А если так, все один на одного оглядаться будем, так ничего и не дождемся, кроме лядского батога! – вскрикнул Волк.
– Не так батьки наши думали, когда подымались еще за гетмана Богдана, не осматривались они, кто первый встанет и кто второй, – заговорил горячо молодой казак, подымаясь с места, – потому и силу имели, потому и били ворогов! А вы, срам смотреть на вас! Никто и не поверит, что вы казацкие дети. С вас ворог третью шкуру спускает, а вы еще не решаетесь и отбиться от него! Чего ж и роптать на Бруховецкого? Дурень он, что ли? Отчего ему не драть с вас шкуры, когда вы сами подставляете еще ему и спины? И чего ж вы боитесь, что потеряете? Ведь что бы там ни случилось, а последнего шматка хлеба не отберут у вас, бо попухнете с голоду, и им же не с кого будет свои поборы сбирать… ха-ха! Вот на что перевелись те лыцари-козарлюги, которые с Богданом гнали из-под Корсуня, из-под Збоража, из-под Пилявец ляхов!
– Хочь молодой, а говорит разумно! Ей Богу, панове, правда! Что ж: голый дождя не боится! – раздались то там, то сям более громкие восклицания.
– Эх, хлопче, – заметил дед, покачивая головой, – оно, правда, и шкуры своей жалко, и воли, и той крови, что пролили на кровавом поле наши браты, да только тогда ведь с нами был славный наш гетман Богдан Хмель, а теперь мы все равно, что «отара» без «чабана».
– Есть пастух и не хуже гетмана Богдана!
– Кто?
– Петро Дорошенко!
– Ну, не много-то он помог переяславцам.
– Потому что выхватились рано, а теперь, слышите, говорят кругом, что гетман Дорошенко сам со своим, войском к нам сюда прибудет, а с ним идет и орды сто тысяч!
– Ох, ох, ох! В том-то и горе, – застонал снова Вовна, – как прибудет он сюда с татарами, тогда-то уже и настанет жива смерть. Мало ли сел наших и хуторов от этих «побратымив» пропало!
– Да ведь не с нами воевать будут, а за нас, чтобы отбить нас от Бруховецкого, – возразил Гарасько.
– Да отдать в лядскую неволю?
– Либо в басурманскую? – прибавил дед.
– А хоть бы и в сатанинскую, так хуже того, что теперь мы терпим, не будет! – вскрикнул гневно Волк, ударяя с силой своим стаканом по столу. – Ослепли вы, оглохли, что ли? Да ведь еще и за ляхов-панов не терпели мы таких «утыскив» да «драч», да поборов, какие настали теперь!
– Эй, не гневи Бога, Волче! – произнес строго старик. – А уния, а ксендзы! Разве мы теперь их видим? Забыл ты, видно, то горе, которое терпели мы, а я вот помню, вот как перед глазами стоит.
– Разве теперь отдают наши церкви жидам, разве платим арендарям за хрестины, за службу Божию, за святой похорон? – заговорил, задыхаясь за каждой фразой, Вовна, – разве теперь знущаются над нашей православной верой?…
– Ну, что, правда – то правда, – поддержали его некоторые соседи.
– Ну, вера верой, а шкура шкурой… – буркнул сердито Волк, наливая свой стакан.
– Оно конечно, душа первое дело, – заметил Гарасько, – но надо же чем-нибудь и грешное тело «пидгодувать», чтоб подержать его на свете Божьем.
– Да ведь и гетман Дорошенко не думает отдавать нас в лядскую неволю, он давно отступился от ляхов!
– Так «злучывся» с басурманом! Думаете, под басурманом легче будет? Ох, ох, ох! – закашлялся Вовна, придерживая рукою грудь. – Не отступайтесь: Москва православная, своя. Вон смотрите… сколько с той стороны несчастного люду сюда к нам бежит… а вы… ox, ox! – он махнул рукой и снова закашлялся тяжелым удушливым кашлем.
– Д-да, бегут, – произнес многозначительно Гараська, – потому что не пробовали нашего пива, а как попробуют, так скоро назад повернут!
– Уж это верно! – вскрикнул Волк. – Да что тут толковать: прежде, по крайней мере, одного пана имели на шее, а теперь и гетман, и старшина, и воеводы со своими ратными людьми!
Разговор о невыносимых налогах, наложенных Бруховецким, сразу оживил все собрание.