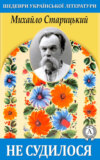Kitabı oku: «Молодость Мазепы», sayfa 18
XXXV
– Да, панове, – заговорил Гарасько, вынимая свою «люльку» и выколачивая ее о каблук, – мы у Бруховецкого не подданцы какие, а вольные люди, а теперь, выходит, что и татарскому «бранцю» легче жить, чем нам на своей власной земле. За дым плати, за хату плати, за волов плати, – заговорил он, загибая за каждым словом палец, – за лошадей плати, за ярмарку плати, за всякий промысел плати, – за бобровые гоны, за звериные стойла, за бортные угодья, за пасеки, за рудни, за млыны…
– Что за млыны! За всякое млыновое колесо плати! Качку какую застрелишь – плати! Десятую рыбу отдавай! – перебили его шумные восклицания. – Не смей и вина себе выкурить и пива наварить! – раздались кругом гневные клики.
Все поселяне заволновались: то там, то сям начали раздаваться угрозы и крепкие слова; выпитое вино разогревало головы и развязывало язык. Это разгоравшееся возмущение, казалось, доставляло тайное удовольствие скрытому за бочкой незнакомцу. Он вынул из-за пояса коротенькую разукрашенную серебром люльку и, закуривши ее, начал еще внимательнее прислушиваться.
– А вы кричите – уния! И без унии, – говорю вам, – можно люд Божий так утеснить, что и на свет смотреть не захочется! – кричал Волк сиплым, охрипшим голосом.
– Что, правда, то правда! – произнес жалобно Вовна, – а как наскочут еще татаре, да выбреют тебе все село, да вытопчут чисто все поле, тогда уж и крутись, как муха в кипятке.
– Вот как бы сложились мы в «купы», да поднялись все, как за гетмана Богдана, тогда бы и избавились Бруховецкого.
– Верно, верно, пора, панове, – хуже не будет, – то там, то сям раздались одобрительные возгласы.
– Еще бы! Отцы наши кровь свою проливали, чтоб избавить нас от подымного, да варевого, да солодового! – надрывался Волк, – а они хотят запровадить нас в еще горшее ярмо. Рушаймо, панове, на Гадяч. Дорошенко поспеет за нами!
От криков, возгласов и шумных движений собравшихся пламя в каганце заколебалось и наполнило всю небольшую светлицу, полную синего дыма и тяжелых винных испарений, какими-то колеблющимися тенями. При этом тусклом свете видно было только, как подымались то там, то сям грозные сжатые кулаки, или всклокоченные головы, как падали на пол опрокинутые стаканы, фляжки, кувшины.
– Да как же так, постой! Куда ж мы сами? Нас переловят… Кто говорил про Дорошенко? Да может еще брехня! Куда нам самим, если б еще Дорошенко тут был! – раздалось кругом, в ответ на возглас Волка.
– Стойте, панове! Слушайте меня! – ударил Гарасько рукой по столу. Его громкий возглас заставил всех оглянуться, шум и крики умолкли.
–Слушайте меня, – продолжал Гарасько, – что Дорошенко прибудет сюда, то верно, подал нам вестку такой человек, который нас словом не зрадит, опять и покуда Дорошенко к нам прибудет, без головы не останемся, – он же нами будет и предводительствовать.
– Кто? Кто такой? – понасунулись к нему все.
– Полковник Гострый.
– Полковник Гострый? – вскрикнули в один голос слушатели.
– А что, думаю, все его знаете?
– Кто ж его не знает! Еще бы! Молодец! Голова!
– Еще какой молодец. Даром, что старый, а поищи еще такого молодого, – не сыщешь нигде! – продолжал с воодушевлением Гарасько. – Позавчера на облаве поднял он медведя. Прицелился – паф, – только пановка «сполохнула» – он кинулся подсыпать пороху, так куда там, – зверь прямо на него идет; уже было и лапу над ним занес, – так он присел, да одним ударом, слышите, как хватит его ножом в брюхо, так и распорол до самой шеи. Космач и гепнул ему на спину. Мы, было, все похолодели от страху, а он ничего, только отер нож свой о траву, засунул его за пояс, да и говорит: «Эт, к бису такое полювання, пропал чисто кунтуш», – а его кровью да «тельбухамы» так и обдало.
Громкие, одобрительные возгласы приветствовали этот рассказ.
– А уж что голова, так и самого беса проведет! Хочет, видите ли, Бруховецкий уловить его, а просто силою взять боится. Уж он его и выманивал, и полки ему давал, – никак не проведет старого. Стал искать, как бы подкупить кого-нибудь из слуг полковничьих, чтобы узнать, как пробраться к нему, – все ему не удавалось, а напоследок нашелся таки такой Иуда, Иван Рагоза. Что же бы вы думали? – Не укрылся он от полковничьего ока, раскусил он его, – уж каким там хитрым образом – не знаю, а только дознался полковник доподлинно, что он «шпыг» Бруховецкого.
– Ну, ну? – заторопили его слушатели.
– Выколол он ему глаза, отрубил язык, – произнес медленно Гарасько, наслаждаясь впечатлением своих слов, – и отослал к Бруховецкому: расспрашивай, мол, теперь, что хочешь, да знай, что меня не так-то легко поймать.
– Хо-хо! Ну и голова, ловкач! Характерник! – раздалось кругом.
– Так он вот самый и присылал к нам в Волчий Байрак своего наивернейшего сотника Михаила Горового, чтобы мы собирались, озброились, пришлет он нам и кошты, и зброю, да готовились бы вместе с ним гнать Бруховецкого, да принимать Дорошенко…
– Да надо еще разузнать гаразд, что за птица и сам Дорошенко? Мы его и на масть не видали, какой он? Пели много и про Бруховецкого, а какая цаца вышла. Семь раз примерь, а раз отрежь, говорит пословица, – послышались кое-где несмелые замечания.
В это время дверь в корчму отворилась, и в светлицу вошел пожилой человек в потертом казацком жупане с двумя тяжелыми сулеями в руках.
– Вот достал вам наливочки, панове товарыство, так могу заверить вас, – нет такой и у самого полковника, – произнес он, но, услышавши последние фразы разговора и увидевши крайнее возбуждение всех собравшихся, он быстро поставил в стороне сулеи и подошел к тому столу, где сидел Гарасько, вокруг которого группировались теперь присутствующие.
– Что это вы так распустили языки, панове? – произнес он испуганным пониженным голосом. – Разве не видите, что чужой человек сидит?
– Кто? Где? – прошептали растерянно поселяне, поворачиваясь по направлению взгляда шинкаря, и увидали незнакомца, потягивавшего в углу свою «люлечку». Все онемели.
– Кто он такой? Откуда? – произнес, наконец, Гарасько.
– А кто его знает, проезжий какой-то.
– Давно здесь?
– Да с самого «початку».
Все молча переглянулись.
– Он слышал все, панове, – произнес тихо Гарасько.
Наступило сразу молчание. В шумной корчме в одну минуту стало так тихо, что можно было услыхать дыхание соседа.
– Что ж теперь делать, панове? – обратился Гарасько к окружавшим его поселянам.
Все молчали.
– Если мы выпустим его, он выдаст нас с головой Бруховецкому! – произнес еще тише Гарасько.
– И не только нас, а и полковника, и всю справу, – прибавил Остап.
Гарасько наклонился еще ближе к окружавшим его встревоженным, растерянным поселянам и заговорил уже совсем тихо, так тихо, что даже дальние соседи не могли его услыхать. До незнакомца долетели только последние слова: «Здесь или в дороге».
Все это замешательство продолжалось не более двух минут, однако оно не укрылось от внимательного взгляда незнакомца, но несмотря на то, что он явственно услыхал послед-ние слова Гараська, – они не произвели на него никакого впечатления; он выбил пепел из своей «люлькы», набил ее новым тютюном и снова окутался клубами синего дыма. Между тем и поселяне, казалось, успокоились после слов Гараськи. Все разошлись по своим местам, шинкарь, взявши в руки принесенные сулии, начал обходить гостей, подливая каждому чарку нового напитка. Послышались веселые, шутки, пожелания и всякие остроты.
– А что это ты, пане добродию, ховаешься там, как злoдий, за бочкой и не идешь до громады? – обратился Гарасько смешливо к незнакомцу, сидевшему в углу.
– За бочкой я не ховаюсь, а сижу, как и все вы, панове, – отвечал незнакомец, – а до громады не шел, потому что никто не просил меня; теперь же дякую за приглашение и с радостью присоединяюсь к вам.
С этими словами он встал и подошел к тому столу, за которым сидел Гарасько.
Крестьяне подвинулись, и незнакомец занял место между Гараськой и Вовной.
– Ну, садись, пане-брате, не знаю вот только как величать тебя, – обратился к нему Гарасько, ставя перед ним пустой стакан и наливая в него наливку.
– Иваном Зозулей, – ответил незнакомец.
– Зозулей… Не слыхал что-то.
– Я не здешний.
– Дальний?
– Д-да, не близкий. А кто ж ты будешь?
– Крамарь.
– Гм… ну все одно, выпьем по чарке, пане крамарю, а может ты не захочешь с нашим братом пить? – повернул в его сторону Гарасько свои желтоватые белки.
– Отчего же так? Только давайте!
– Ну-ну, гаразд! – Гарасько налил и свою чарку и поднявши ее, произнес: – «Дай же Боже, щоб все було гоже, а що не гоже, того не дай. Боже!»
Незнакомец последовал его примеру, но в то время, когда он поднял свою чарку, на руке его сверкнул при тусклом освещении «каганця» огромный драгоценный перстень.
– Гм… гм! – крякнул Волк и, подтолкнувши локтем соседа, произнес тихо: – Замечай!
Гарасько продолжал потчевать незнакомца то медом, то горилкой, и среди крестьян завязались снова в разных группах оживленные разговоры.
– А что, Остапе, ну, как твоя «справа»? Будешь ли засылать сватов к Орысе? – долетели до незнакомца слова, обращенные к молодому черноволосому казаку его соседом.
При этом имени незнакомец сразу обернулся в ту сторону, откуда раздалась эта фраза; рука его, державшая стакан, слегка вздрогнула и расплескала наливку, он опустил стакан на стол, провел в раздумьи тонкой белой рукой по лбу и, повернувшись в пол-оборота, вперил свои глаза в собеседников; последние, занятые своим разговором, совершено не заметили впечатления, произведенного их словами на незнакомца.
– Кой черт! – отвечал сердито Остап, – батько ее и слышать о том не хочет. И правду сказать, все-таки поповна, а я теперь что? Посполитый, та й годи!
– А что ж, ты ездил к полковнику?
– Был. Мой батько, говорю, локтем не мерял, а хлеб казацкий добывал, трудов своих не жалеючи, и разом с гетманом Богданом отчизну «вызволяв»! А он мне, – это, говорит, все одинаково, хоть бы он у гетмана Богдана наипервейшим полковником был, а коли в реестры не внесен, так и ты должен в послушенстве ходить! А на какого ж бесового дидька, спрашиваю, не внесли его в реестры? Ведь все мы ровно трудились, так всем ровно и казаками быть.
– Нашел, что «згадувать», – отозвался из-за стойки шинкарь, – может гетман Богдан и всех хотел в реестры записать, да, сам знаешь, – не допустили.
– А дозвольте спросить вас, честное товарыство, – произнес в это время незнакомец, отсовывая от себя кружку. – За что это вы, слышу я, на старшину свою так нарекаете? Ведь она, кажись, высвободила вас из лядской неволи?
Все с изумлением оглянулись на него.
– А чтоб уже ее «дидько» так из пекла «вызволыв», как она нас «вызволыла» из неволи! – вскрикнул гневно Волк, подымаясь с лавы. – Сами мы себя высвободили, а она хочет запровадить нас в еще горшую неволю!
– В какую неволю? – изумился незнакомец, – ведь нет же теперь на Украине у вас ни ляхов, ни унии, ни жидов. Та чего же вам еще нужно?
– Да ты сам, Зозуля, из каких это лесов сюда прилетел? – обратился к нему Гарасько.
– С правого берега.
– Ну, так и видно, что ничего ты не знаешь, а есть у нас здесь «цяци» и получше унии, ляхов да жидов.
– Что же такое?
– А вот сперва сам гетман со своей старшиной.
– Хо-хо! – усмехнулся незнакомец, возвышая голос, – против воли гетмана ничего не поделаешь!
– А что такое гетман? Мы сами его выбрали, так сами и сместим! А коли на то пошло, так пора ему и «тельбухы» выпустить! – крикнул запальчиво Волк.
– Хе-хе! Храбрые какие, ей Богу, словно куры перед «дощем»: разве у Бруховецкого нет своей верной старшины, да воевод, да ратных людей?
– А если не сила, так заберем своих жен и детей да уйдем все на Запорожье! – крикнул горячо Остап. Сочувственные возгласы подхватили его слова.
– Догонят, догонят, панове! – отвечал уже с нескрываемой насмешкой незнакомец.
Эти слова окончательно взорвали всех поселян.
– Да кто ты сам будешь? – перебил его Волк, подскакивая к нему со сжатыми кулаками. – Уж не из тех ли самых «суциг», что с Бруховецким мудруют?
– А хоть бы и так, – отвечал заносчиво незнакомец, подымаясь с места. – Что тогда?
– А то, что настала пора бить таких гадин, – вскрикнул бешено Волк, занося над ним свой почтенный кулак.
– Верно! Бить их всех! – закричали кругом, и в одну минуту незнакомца окружила возбужденная, рассвирепевшая толпа.
– А коли бить, так бить! – вскрикнул в свою очередь незнакомец, вскакивая в одно мгновение на лаву и выхвативши саблю из ножен. От его быстрого движения кобеняк свалился у него с плеч.
Толпа невольно отступила.
Перед ней стоял молодой статный казак в дорогом, расшитом золотом жупане, с драгоценным оружием за поясом. Все онемели от изумления.
– Чего ж стали, коли бить, так бить, не смотреть ни на кого! – продолжал горячо казак. – Панове, я Иван Мазепа, ротмистр гетмана Дорошенко, меня прислал он к вам, хотите быть вольными, как были батьки ваши, не платить ни стаций, ни рат, ни оренд, а зажить панами в своей «власной» хате, – так не теряйте часу, «прылучайтесь» к нему, записуйтесь в его реестры, – вот вам универсал его, гетман идет сюда освободить вас и всю отчизну от Бруховецкого и от всех ее врагов!
С этими словами казак развернул перед поселянами толстый свиток бумаги.
– Слава, слава гетману Дорошенко! Все за него! – закричали в восторге поселяне, окружая Мазепу взволнованной, бодрой толпой.
XXXVI
Медленно подвигался отряд Мазепы по узкой дороге, извивавшейся среди прижавших ее с двух сторон обрывистых утесов. Кругом расстилался дикий сосновый бор. Огромные мохнатые ели и сосны, казалось, уходили под самое небо своими синеватыми вершинами; то там, то сям из-под обвалившейся земли виднелись над дорогой гигантские корни сосен, словно вцепившиеся в песчаную почву красноватыми, корявыми пальцами; в некоторых местах почти вывороченные из земли деревья держались каким-то чудом над самым обрывом, грозя ежеминутно рухнуть всей своей громадой в узкий проход, занимаемый дорогой.
Близился вечер; между красных стволов деревьев уже сгущался седой сумрак; холодный осенний ветер забирался под плащи путников; вершины столетних сосен медленно покачивались с каким-то зловещим шепотом; по тусклому, серому небу медленно ползли грузные темные облака; все было мрачно, дико и угрюмо.
Мрачный вид окружающей природы и угрюмого неба производил какое-то угнетающее впечатление. Отряд подвигался медленно и молчаливо; время от времени то там, то сям раздавалось какое-нибудь отрывистое слово, и снова кругом воцарялось молчание, прерываемое только шепотом сумрачного бора.
Впереди отряда, крепко закутавшись в свою длинную керею, ехал Мазепа. Со вчерашнего вечера одна неотвязная мысль не давала ему покоя; ему все вспоминались слова, сказанные молодым казаком: «А что, скоро ли будешь засылать сватов к Орысе?» Что могло заключаться для него, Мазепы, в этих словах? А между тем они заставили его вздрогнуть и вызвали в нем какие-то туманные, неразрешимые воспоминания. От чего могло это зависеть? Что из прошлого могло в нем вызвать слово Орыся? Знал ли он какую-нибудь Орысю? Мазепа принимался перебирать в своем уме имена всех знакомых ему женщин, и, словно на смех, ни одна из них не носила имени Орыси. Однако же было в этом слове что-то такое, что заставило его насторожиться и прислушаться к разговору казаков. Он прекрасно помнит этот момент: когда он услыхал это слово, то сразу ощутил какой-то легкий толчок в сердце и в ту же минуту перед ним вырисовался угол какой-то серой незнакомой хаты, глиняный пол, рядно, какой-то длинный, вытянутый на нем предмет и две женские фигуры в стороне. Дальше он не мог ничего припомнить. Было ли это наяву, или ему снился сон, Мазепа не мог дать се отчета, но, повторяя снова это слово «Орыся», он видел неизменно все ту же картину.
Мазепа провел рукою по лбу; он снова ощутил в мозгу ту мучительную боль, какую ощущает человек, желающий вспомнить во что бы то ни стало что-то решительно ускользающее из его сознания. Чем дольше он вдумывался в это странное обстоятельство, тем большая досада начинала разбирать его. И почему он не остался до утра в шинке и не расспросил об этом подробнее у казака? Может быть, это дало б ему хоть какую-нибудь нить к отысканию Галины? Галины! – злобн усмехнулся Мазепа, и даже досада разобрала его на самого себя. – Какое отношение это может иметь к Галине? Ей Богу, можно подумать, что я потерял последний разум! – проворчал он про себя, а между тем почувствовал невольно какое-то невидимое тайное звено, соединяющее это имя и обрывок воспоминания с образом Галины. Но если бы он даже и остался, что мог спросить он у казака: какая Орыся? – ну, белявая, чернявая, рудая, – больше он не мог ему ничего ответить. Да и оставаться дольше было невозможно: гетман просил делать дело поскорее, а он еще потерял столько времени в степи, – добрых недели две. Нет, нет! Нельзя так играть с судьбою отчизны! – воскликнул с досадой Мазепа. Однако, несмотря на все его усилия, мысль его снова возвращалась к этому казаку, к неизвестной Орысе, к Галине. Уж это неспроста, – решил, наконец, Мазепа, – здесь кроется что-то невидимое для меня, но нельзя его упускать из виду так беспечно; надо будет на обратном пути заехать в деревню и порасспросить хорошенько казака.
Это решение слегка успокоило Мазепу, и мысль его снова возвратилась к опустевшей дидовой балке.
Первое время, когда из знаков и гримас немого ему удалось уяснить себе, что Галину и Сыча и всех остальных домочадцев увез кто-то и увез насильно, так как Галина плакала при этом, его охватило такое отчаяние, что он хотел тотчас же отправить гонца к гетману Дорошенко с известием о том, что он не может выполнить взятого на себя порученья, – но тут же он устыдился своей слабости. Ему поручили дело, от которого зависит судьба всей отчизны, жизнь десятков тысяч людей, а он из-за личного счастья готов забыть все, осрамить навсегда свое имя, стать вечным посмешищем у казаков. На помощь Мазепе пришли сейчас же его холодный разум и привычка управлять собою и заставили его отказаться от этого безумного намерения. Куда ему нужно было так торопиться? Куда броситься? Кого спрашивать? Где мог он искать Галину? Ни татары, ни ляхи, ни москали, судя по знакам немого, не были виновны в этом похищении, так кто же мог это сделать, кто мог открыть их уединенное жилище? Кроме всего этого, Мазепу поражала здесь еще одна странность: зачем похитителю понадобились в таком случае и Сыч, и баба, и Безрукий? А если это они по своей доброй воле решили покинуть старое жилище и перебраться в более людные местности, то зачем оставили они Немоту и все хозяйство? Но сколько ни ломал себе голову Мазепа над этим непонятным исчезновением Галины, он не мог придумать ничего сколько-нибудь правдоподобного: все нити здесь были оторваны и ни одной из них нельзя было восстановить. Одно только обстоятельство слегка утешало его, – это то, что и Сыч, и Безрукий были вместе с Галиной, они же не допустят какого-нибудь страшного злодеяния над бедным ребенком, – думал он, – а тем временем он, Мазепа, исполнит поскорее свое поручение и, отпросившись у гетмана; бросится снова в степь, а если не найдет там опять никаких следов – что тогда? Какая-то ярость начинала охватывать Мазепу перед этой абсолютной неизвестностью. Решительно судьба задалась целью преследовать его! Вот как это серое небо обложили кругом свинцовые тучи, так и его окружили каким-то неразрывным кольцом непреодолимые неудачи. И ни одного луча надежды впереди… И все так неожиданно! Вот хоть бы и это дело, которое он сам задумал, на которое возлагал такие большие надежды, – теперь становится ему на дороге и будет стоить, быть может, жизни Галине… О! Проклятье! – прошептал он яростно, стискивая зубы, – хоть бы уже скорее освободиться, а то потом, когда подымется буря, где уже там будет отыскать хоть кого-нибудь! А тут еще, словно, все сговорилось против него – и мать, и люди, и обстоятельства, и сама погода! Да вот еще заезжай к этому Гострому! Хотя бы знать, скоро ли его жилище?
Мазепа поднял голову.
– Ну и дичь! настоящее шутово кубло! – прошептал он невольно, озираясь кругом.
Действительно, чем дальше ехали путники, тем мрачней и угрюмей становилась местность. Дорога все подымалась в гору. В некоторых местах обвалившиеся сухие ели перебрасывались с одой стороны обрыва на другую, словно висячие мосты, в других они совсем склонялись над дорогой своими мохнатыми ветвями. Голые, песчанистые обрывы сдавливали дорогу еще теснее в своих объятиях. Узкая полоса неба, видневшаяся над головами путников, нагоняла на душу своим угрюмым сумрачным видом еще большую тоску. Ноги лошадей грузли в песке, так что подвигаться вперед можно было только шагом. Становилось темно; вывороченные корни и стволы елей начинали принимать фантастические очертания.
– Ну, уж и место, – покачал Мазепа головой, – как раз бы здесь ведьмам свадьбу играть. Фу ты, нечистая сила! – сплюнул он на сторону, – сама на язык лезет.
В это время размышления его прервал протяжный стон филина, раздавшийся сзади за его спиной, будто из средины его обоза. Мазепа насторожился. Прошло несколько минут, крик повторился снова, и вдруг на него откуда-то издалека из глубины бора, ответил такой же протяжный заунывный крик.
– Го, го, – подумал про себя Мазепа, – это что-то не гаразд! Кричала не ночная птица, а наш проводник, я узнал его голос; но с кем это он перекликается? Уж не обманывает ли? Как раз еще заведет к кому-нибудь из подножков Бруховецкого, или к каким харцызякам в зубы, мало ли их бродит теперь по таким пущам! – Эй, кто там! – вскрикнул он вслух, поворачиваясь в седле.
Старый Лобода подскакал к нему.
– Слушай, Лобода, – обратился к нему Мазепа, – расспроси ты этого поводыря: куда он нас ведет и скоро ли буде жилище Гострого? С утра путаемся в этой чащобе и не найдем следа… Скажи ему от меня, что если до ночи не доведет он нас, так пусть не нарекает на долю, что пропадет его пояс, а виселиц здесь найдется довольно.
Лобода поскакал назад и через несколько минут вернулся с ответом, что проводник «упевняе» его мосць, что он идет по верной дороге, и через час обещает доставить их к самому дворищу полковника.
– Ну, гаразд, – ответил слегка успокоенным голосом Мазепа, – да трогайте вы лошадей, что ли!
– Трудно скорее двигаться: опасно оставить обоз, – ответил Лобода, – проводник говорит, что скоро окончится песок.
Мазепа ничего не ответил, а только проворчал сквозь зубы:
– Ишь ты, как темнеет кругом, того и гляди, что напорешься на какой-нибудь сучок или «влучиш» в яму.
Однако делать было нечего, надо было продолжать путь шагом.
Дорога между тем, сначала подымавшаяся в гору, пошла ровно. Песок совсем исчез, почва стала твердая; среди елей и сосен начали попадаться дубы, грабы, осина. Отряд двинулся рысцой. Вскоре сосновый бор совершенно заменился густым и диким чернолесьем. Дорога начала незаметно понижаться. Подступавший с двух сторон лес сдавливал ее все больше, наконец, она сузилась до того, что стала не шире лесной тропинки. Беспокойство начало снова прокрадываться в сердце Мазепы. Спуск становился все круче, лошадь его осторожно ступала вперед, поматывая нетерпеливо шеей и настораживая уши. Вдруг за спиной его раздался снова протяжный крик ночной птицы, и через несколько минут издали с правой стороны донесся такой же заунывный стон.
– Опять перекликается чертов пугач! – проворчал Мазепа
– Ух, не по душе мне это! – Он хотел, было, крикнуть Лободу, но в это время лошадь его шарахнулась в сторону с такой силой, что Мазепа едва удержался за ее шею, чтобы не вылететь из седла.
– Засада! – вскрикнул он, придерживая испуганное животное. – Гей! Проводника сюда!
В одну минуту Лобода и другие казаки отряда подскакали к Мазепе вместе с проводником.
– Куда ты завел нас, сатана! – закричал на него Мазепа, вырывая из-за пояса пистолет. – Смотри, дорога перекопана, повалены колоды! С каким лесным дидьком перекликаешься ты? Говори все по правде, или я застрелю тебя сейчас же, как пса!
Угроза Мазепы, казалось, нимало не смутила проводника.
– Если пан ротмистр застрелит меня сейчас же, как собаку, то никогда не выберется назад из этой пущи, – произнес он спокойно, – а если поедет за мною и дальше, то всегда будет иметь время застрелить меня; для того же, чтобы пан ротмистр не думал, что я хочу спастись бегством, то прошу привязать мою лошадь к своему поводу и пустить меня вперед.
Слова проводника были так логичны, что Мазепа не нашелся ничего возразить на них.
– С кем ты перекликаешься? – спросил он сурово.
– С вартовыми полковника.
– Почему же они не покажутся?
– Потому, что никто не должен знать того места, где они прячутся.
– Ишь, дьявольские выплодки, – проворчал Мазепа сквозь зубы, – кажется, в пекло можно пробраться скорее, чем к этому старому «дидьку» в дупло. Ну, – обратился он к проводнику, – ступай вперед. Да только смотри, я держу пистоль наготове: малейшее твое движение в сторону, и я без промаху всажу добрую галушку в твой затылок.
– Гаразд, – ответил проводник.
Повод его лошади прикрепили к лошади Мазепы, Мазепа осмотрел заряды в пистолете, и отряд снова двинулся вперед. Теперь двигаться стало еще труднее, чем прежде. Дорога быстро понижалась; потянуло сыростью, чувствовалось где-то близкое присутствие болота; ноги лошадей начинали скользить по влажной, грязноватой почве; густой черный лес превратился в какую-то сплошную, непролазную чащу; беспрерывно то там, то сям на дороге встречались сваленные кучей колоды, или прокопанные канавы, или просто «провалля», тогда проводник сворачивал в сторону и выходил на какую-то неприметную тропинку, скрытую в чаще, и путники начинали снова колесить по лесу. Крики пугача раздавались все чаще и чаще, и каждый раз этот протяжный стон вызывал в сердце Мазепы какое-то неприятное, подозрительное чувство. Наконец, после тысячи остановок, криков, возгласов, проклятий, отряд выбрался из лесу и остановился на его опушке.
Было уже совершенно темно, так что Мазепа с трудом мог рассмотреть местность, в которой они остановились. Это была огромная круглая котловина, отлогие стороны которой были покрыты со всех сторон сплошным черным лесом; у подножия леса разостлалось полукругом какое-то топкое непролазное болото с мутно блиставшими кое-где светлыми пятнами, – речкой ли, скрывающейся в очеретах, или просто выступившей из-под почвы водой. За этим болотом подымалась снова темнеющая громада земли, покрытая таким же лесом, на вершине которой Мазепа увидал неясные очертания чего-то громадного и неуклюжего.
– Вот оно и есть то место, где живет пан полковник, – произнес проводник, вытягивая руку по направлению горы.
– А как только мы туда переберемся? – спросил у него Мазепа, озираясь по сторонам. – Ни моста, ни плотины не видно кругом.
– Хе, хе! – усмехнулся проводник. – Ступайте за мною, я проведу.
Отряд двинулся снова по опушке леса, вдоль растянувшегося болота. Проехавши так с полверсты, проводник остановился вдруг у старой дуплистой вербы и, круто повернувшись, приказал своим спутникам следовать за ним.
– Да что ты – прямо в болото? – остановился в недоумении Мазепа. – Потопить нас хочешь, что ли?
– Я в руках пана ротмистра, – ответил невозмутимо проводник. – Прошу следовать за мною, другой переправы нет.
Скрепя сердце, Мазепа должен был подчиниться его приказанию. Лошади начали спускаться и остановились у самого болота.
– Теперь гуськом, один за другим в ряд! – скомандовал проводник, вступая в болото. Раздалось громкое чавканье копыт, грузнущих в густой тинистой грязи.
Оказалось, что в этом месте под тонким слоем грязи, покрывавшей ноги лошадей до щиколотки и выше, была намощена совершенно незаметная для глаза узкая плотина; иногда грязь подымалась до колена лошади; но двигаться можно было, хотя и с большим трудом.
Сверни только на поларшина направо или налево, – обратился к Мазепе проводник, – так и пойдешь с конем к самому болотяному дидьку на вечерю.
Через четверть часа такой утомительной езды путники, наконец, выбрались на сухой берег и стали снова взбираться на гору. Здесь уж дорога пошла ровно, и перед ними зачернела издали какая-то неуклюжая черная громада.
Подъехавши ближе, Мазепа с удивлением рассмотрел замок полковника; он был так мрачен и угрюм, что действительно напоминал страшное разбойничье гнездо.