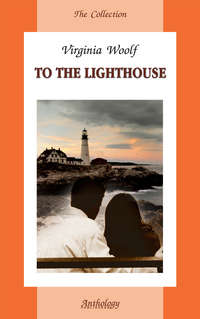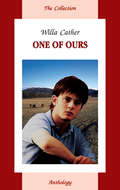«To the Lighthouse / На маяк» kitabından alıntılar, sayfa 5

Миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано, и нет чтобы пожалеть женщину, которой дано что-то.

Он себе показался пустым и жестким, как ботинок, намокший и высохший – никак не втиснешь ногу. А ногу втиснуть придется. Придется из себя что-то выдавить.

Она готовилась выдержать жуткую пытку,когда будут смотреть на её картину.Но открыть любому постороннему взгляду отстой своих тридцати трех лет,осадок всех прожитых дней,замешанный на том более тайном,чего она все эти дни не показывала,не открывала,-была настоящая пытка.И удивительное,с другой стороны,волнующее переживание.

И однако факт остается фактом,почти немыслимо плохо относиться к человеку,пока на него смотришь.

Слава Богу, кто бы там ни был, оставался внутри; и по счастливому совпадению даже отбрасывал на ступени хитрую треугольную тень. Это чуть-чуть меняло композицию. Интересно. Еще пригодится. И вернулось прежнее настроение. Смотреть в оба, ни на секунду не расслабляться, чтоб тебя не надули. Держать всю сцену - вот так - в тисках, чтоб ничто не могло вклиниться и напортить. Главное, она думала, довериться будничной вещи; просто чувствовать - вот кресло, вот стол, и - одновременно: ведь это чудо и счастье. А решенье придет.

Нет, она думала, отбирая кое-что из вырезанных картинок - ледник, косилку, господина во фраке, - ничего дети не забывают. Оттого так и важно, что говорить, что делать, и чувствуешь облегчение, когда они идут спать. Ни о ком можно не думать. Быть с собой; быть собой. Теперь у нее часто эта потребность - подумать; нет, даже не то, что подумать. Молчать; быть одной. Всегдашнее - хлопотливое, широкое, звонкое - улетучивается; и с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя - клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо - так она себя ощущала; и это "я", отряхнувши все связи, освобождалось для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей. И у всех, она подозревала, в этом чувстве - неистощимая помощь; у всех; у нее, у Лили, у Августа Кармайкла; у всех есть, наверное, это чувство - что наша видимость, признаки, по которым нас различают, - пустяки. А под этим - тьма; расползающаяся; бездонная: лишь время от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят.

И вдруг все было прервано, Уильям Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, простершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: "Чудно, чудно", и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту
и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и, как тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Этот человек, думала она с
накипающей злостью, никогда не дает; он берет. А ее вот заставляет давать.
Миссис Рэмзи - та вечно давала. Давала, давала - и умерла; и все это
оставила.

Насытясь ее словами, затихнув, как кормленое дитя, он сказал наконец,
взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного
пройдется; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.
Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как складывается на ночь цветок,
вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной
усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется
до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился
восторг удавшегося творенья.
Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих
связывал утешеньем, какое дарят друг другу, сливаясь, два разные - один
высокий, один низкий - струнные голоса.

Чарльз Тэнсли его считает крупнейшим современным мыслителем, - сказала
она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали,
что он нужен; необходим; не только здесь, во всем мире. Сверкая спицами,
уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском;
приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она
смеялась, она вязала.