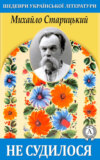Kitabı oku: «Молодость Мазепы», sayfa 10
XIX
Несмотря на то, что солнце еще стояло над горизонтом, ущелье было мрачно и темно; направо и налево тянулись сплошь серые, гранитные стены. Это были не скалы, не горы, а сплошные громады седого гранита, пробитые рекой. Они подымались из воды совершенно отвесно; казалось, нигде нельзя было бы причалить к ним лодку и вскарабкаться на них Стесненная в этом каменном коридоре река мчалась с необычайной быстротой.
Глубокие трещины бороздили каменные громады; в некоторых местах они раскололись и свисали какими-то ужасны ми глыбами, готовыми ежеминутно сорваться в реку; то там, то сям виднелись пятна седого мха.
Тени от этих высоких громад наполняли собой все пространство; воды реки казались черными и холодными. Только полоса развернувшегося над головой лазурного неба напоминала о том, что за этими холодными каменными глыбами стоял яркий летний день.
Картина была величественна, мрачна и угрюма. Перед этими каменными громадами огромный байдак казался какой-то жалкой скорлупой.
Весь поглощенный этой картиной, Мазепа стоял неподвижно на носу байдака.
Вдруг издали донесся отдаленный гул, словно ропот морского прибоя, только более ровный и постоянный. Мазепа с тревогой устремил вперед глаза и напряг зрение; ничего не было видно, но шум заметно рос и усиливался.
– Новый порог, и, кажется, самый грозный, – промелькнуло у него в голове.
На «чардак» вышел сам кошевой и несколько казаков. За дорогу Мазепа успел еще более сблизиться с Сирко и еще лучше узнал его чуткую, бесхитростную душу.
– Что это за новый порог? – спросил быстро Мазепа, когда Сирко подошел к нему и стал с ним рядом на носу.
– Где там у черта порог? – ответил, не выпуская изо рта люльки, Сирко и поправил осунувшийся пояс.
– Да вон там гудит и бурлит, как «скаженый», – указал рукою Мазепа.
– Хе! Какой же это порог? – улыбнулся Сирко и, вынувши изо рта люльку, плюнул далеко в сторону. – Это Хортица к нам приближается, а на ней гудит Сичь, или лучше сказать «прысиччя», потому что самая Сичь по той стороне острова. Только чересчур что-то разбушевалось «прысиччя»: отняли ль добычу у татарских «харцыз», либо с «полювання» какого-нибудь возвратилась ватага… Да, что-то уж необычное… – Кошевой почесал себе затылок и, поправивши шапку, прибавил: – А вот побачим, почуем!
Байдак круто повернул направо, и вдруг каменные громады сразу оборвались, словно упали в воду; целые снопы золотых лучей заходящего солнца ворвались в угрюмый каменный коридор; перед путниками распахнулась бесконечная лазурная даль реки, залитая золотом и огнем.
И в этом золотистом тумане подымался прямо из воды, словно затонувший корабль, огромный и темный остров.
Все на байдаке пришло в движение.
– Вот оно, Запорожье, наша Сичь-ненька, – произнес с чувством Сирко, снявши почтительно «шлык».
Казаки обнажили головы, Мазепа тоже поднял машинально высокую шапку и обернулся быстро в ту сторону, куда глядели казаки.
Ему бросилась сразу в глаза пестрая и оживленная картина, захватывающая всякого зрителя своей кипучей жизненной силой.
Берег Хортицы, высокий и отвесный, усеянный крутыми глыбами камней, торчащими по приподнятому тремя выступами искусственному валу, тянулся и загибался вдали. На берегу у причала, куда широкой дугой загибал уже байдак, копошился и сновал группами разношерстный народ.
Шум и гвалт, защищенный сначала каменной стеной и казавшийся тогда глухим рокотом, теперь сразу ударил по ушам резкостью бушующих звуков: в этой грубой какофонии основной тон держали раздававшиеся во всех углах глухие и звякающие удары, и на этом уже фоне вырезывались перебранки, крики и песни.
Направо и налево от пристани тянулась ломаной линией флотилия чаек; на некоторых копошились обнаженные люди и что-то в них заколачивали; другие чайки были вытащены на берег и конопатились да смолились; вокруг последних стояли клубы черного дыма от разложенных под валами костров. С нескольких чаек в проток Днепра закидывали невод.
У берега и на середине реки барахтались и вспенивали, воду могучими взмахами рук сотни бронзовых тел, брызгая во все стороны, фыркая и издавая какое-то громкое ржанье; другие помогали загонять рыбу в закинутый невод. Выкупавшиеся уже фигуры лежали на откосе берега, предаваясь созерцательной лени. Выше за ними сидела и полулежала группа казаков в роскошных, дорогих, но изорванных и запачканных дегтем жупанах, кунтушах и турецких куртках и громко с увлеченьем спорила о чем-то и кричала. Впрочем, и среди купающихся, и среди конопатящих чайки, и среди лениво отдыхающих на берегу всюду слышались какие-то гневные крики, проклятья и целые каскады брани. Обычное раздольное житье Запорожья, видимо, было чем-то неожиданно нарушено.
Из-за вала доносился еще больший шум, словно за этими откосами, увенчанными выставившимися жерлами «гармат», шла кипучая битва.
Байдак пристал к причалу; бросили веревки на берег, но, несмотря на крики рулевого, никто их не поднял и не привязал к забитым во многих местах «палям».
– Да соскочите, хлопцы, который! – крикнул Сирко, – и закиньте сами, а то ведь этих лежебок никогда не дождешься на перевозе; бей меня сила Божья, коли я их не покараю, лишивши дня на три оковитой.
Из отдыхавших невдалеке казаков, с заброшенными под голову руками, поднялась одна фигура атлетического сложения, узнавшая, видимо, кошевого по голосу, и подошла с любопытством к байдаку. Заходившее солнце ударяло прямо в глаза запорожцу, и он, поднявши руки щитком, присматривался к выходившим на «загату» приезжим.
В полной наготе своих форм он был великолепен; стройная мускулистая фигура его, облитая теплыми тонами заката, напоминала дорогую бронзовую статую какого-нибудь гладиатора, перенесенную из пышного римского дворца на этот дикий берег.
– Хе! Пане кошевой, батько наш. Вон оно кто! – заговорил радостно атлет, узнавши Сирко. – А я смотрю и дивлюсь: какой это там «велетень»! Аж это орел наш! Будь же здоров и славен вовеки!
– Здоров будь, Степане! Спасибо за привет, любый обозный! – обнял его Сирко. – Душно, что ли? – окинул он приятеля ласковым взглядом.
– Ге, пане отамане, парит… Смыкнули, правда, грешным с досады делом, окаянной, так она еще больше разобрала! Ну, вот и прохолаживаемся.
– Да что это у вас за шум, за гвалт? Ярмарок, что ли, «розташувався» на горе, на прысиччи или «прыгода» какая?
– Прыгода, не прыгода, а вот пришла «звистка» про Андрусовский договор, ну, наши и всполошились: Москва, видишь, замирилась с ляхами, половину Украины отдала ляхве на поталу, а наше Запорожье подклонила под два кнута, под ляшский и московский, да еще сказано в договоре, что коли посмеет брат брата оборонять, так против него выступят и московские, и польские «потугы».
Сирко остолбенел. Слухи об Андрусовском договоре носились уже по Украине два года и волновали умы людей; но так как послы обеих держав уже съезжались раз для подписания договора, но, не сойдясь в условиях, разъезжались, то в сердцах казаков начинала зарождаться надежда, что московский царь все-таки отстоит и оттянет к себе правую Украину.
И когда Сирко рассказывал Сычу про Андрусовский договор, в душе его все-таки теплилась надежда, что «не такой страшный черт, как его малюют», и что царские послы все-таки поднесут клятым ляхам дулю и отберут у них правую Украину. И вдруг это известие, да еще с новой подробностью о подчинении Запорожья двум державам! Сирко был истинным запорожским батьком: Запорожье представлялось для него земным раем, запорожец – живым идеалом и запорожские войны и набеги на мусульман – святым подвигом во имя Христа. Эти каменистые, защищенные порогами острова он считал сердцем Украины.
Вся кровь бросилась в лицо Сирко; если б это не был его приятель обозный, он крикнул бы: «брешешь ты, собачий сын, а вот чтоб ты не плескал таких паскудных речей, – вырву я тебе твой брехливый язык». Но это был обозный Степан, в правдивости которого нельзя было сомневаться, и холодный ужас прокрался в его бесстрашное сердце. А что, если, правда? Задал он себе вопрос и тут же с последним напряжением постарался отвергнуть его: нет, это ляхи подсылают смутьянов, чтобы породить смуты и обессилить их.
– Да не может, не может быть! – заговорил он вслух. – Это вас смущают охотники до «шарпаныны». Чтоб московский царь отрекся от своих единоверных братив и отдал бы их под бунчук пана шляхтича и ксендза-иезуита! Никогда!
–Э х, да и «упертый» же ты, батьку, – улыбнулся обозный, – а знаешь, как говорят старые люди: и хочет душа в рай, да грехи не пускают. Видишь – ляхве теперь какой-то бес помог, и она «вгору» пошла. Царским послам удалось только выговорить для себя Киев на два года, а потом и он к ляхам на «вечные и потомные» часы отойдет.
– А я вам говорю, что все это – брехня! – крикнул грозно Сирко, – мне и Дорошенко говорил, что не будет этого договора.
– Да он же сам, гетман Дорошенко, и послов к нам с письмами да универсалами прислал, – перебил его обозный.
– Что-о? – отступил от него Сирко, словно не понимая его слов.
– Ну да, тебя ждали, сам побачить, – продолжал обозный, – да туг еще приезжал к татарам посол из Москвы, боярин Ладыженский, ну, его хлопцы немного пошарпали и нашли него разные бумаги, с которыми он к татарам ехал, там все и вычитали. Приказывает-де наш пресветлый государь не только не воевать ляхов, царских приятелей уже выходит, а даже усмирять правобережных казаков, бунтарей и рабочий люд.
– Да это брехня, брехня, не к тебе речь, – заговорил взволнованно Сирко. – Да слыханное ли дело, чтобы православный царь отступался от своих детей православных, да еще в пользу католиков-иезуитов, да еще принял бы к себе в союз басурман? Да пусть он слово скажет, так мы с московским ратями перекинемся на правый берег, отобьем его от ляхов и присоединим назад. И Дорошенко, и владыка, и все едность будут.
– Да так и мы мирковали, а теперь выходит – зась! Да Ладыженский все про другое, все наперекор. Мы ему говорим, не хотим и не станем лядского ярма носить, а он нам: «Не печальтесь ни о чем: ваша служба у великого государя забвенна не будет»! Ну, его и посчитали за «шпыга». Не поверили и как «шпыга»…
– Прикончили?!
– Да что-то такое… «пожартовалы»… не бреши, мол, «непутящых» речей…
– «Погано, Тетяно», – покачал головой Сирко, и брови нахмурились, – ведь он царский посол.
– Да какой же посол, коли говорит такое, что впору лишь басурману! Да вот поезжай сам с Богом, порасспроси: там тебе про все досконально расскажут, да и послы Дорошенковы там, прибыли чуть не сегодня.
Ошеломленный известиями, ломавшими совершенно установившиеся у него убеждения, встревоженный происшествием с послом, Сирко поспешно сел на коня и направился торопливо к низкому подземному проходу в валах, укрепленному скованным частоколом.
Мазепа и сопровождавшие кошевого казаки последовали за ним.
За проходом открывалась довольно обширная площадь, тянувшаяся дугой и огражденная с противоположной стороны еще высшим валом с грозным бруствером, уставленным большого калибра гарматами. Под первым и под вторым валом ютились разные землянки, обмазанные глиной хаты и подвалы для складов; на некоторых хатах торчали на палках пустые бочонки и фляги, и возле таких толпились и орали о чем-то шатающиеся фигуры; у других землянок сверкало в открытых горнах раскаленное железо, и над ним мелькали, подымаясь и опускаясь, тяжелые молоты; у третьих – лежали вороха обручей, и бондари набивали их на бочки и бочонки, у четвертых – слесаря оттачивали сабли и копья на вертящихся камнях, метавших с визгом и треском целые снопы сверкающих искр.
Но вся эта картина будничного труда была закрыта сплошными толпами сновавшего и суетившегося на «майдани» народа.
В разных углах площади стояли обнявшиеся группы, волнуясь, жестикулируя энергически, махая шашками и кулаками. Однако большинство казаков делилось на две группы: одна теснилась подле большого листа какой-то грамоты, прибитой на высоком шесте. Видно было, что кто-то читал ее вслух, но беспрерывные взрывы проклятий и брани прерывали его слова. Другая часть толпы окружала двух старых запорожцев, очевидно, послов Дорошенко, среди которых находился и Палий.
Отдельные личности перебегали от одной группы к другой, подзадоривая и возбуждая разгулявшиеся, видимо, страсти.
Всюду кипел гнев, но о чем шел спор, о чем раздавались крики – разобрать было невозможно. Подойдя к толпе, окружавшей прибитую на шесте грамоту, можно было слышать такие выкрики: «Не саблей нас взяли! Так нечего нас и делить! Довольно уж нас соболями кормить! Вывести сейчас ратных людей из Кодака! Перебить их всех, как Ладыжина! Да коли наше не в лад, то мы и назад! Вот что!»
Подле Палия и старых запорожцев росли крики: «За едность, панове, за едность! Разорвали нас на три части. Так не будет по-вашему! Дорошенко гетманом! Такого премудрого воина нет во всей Польше, не то что в Украине! Да и душа у него казацкая: он с деда и прадеда гетманом… Бруховецкого на палю! Кто за зрадника руку тянет, тот сам зрадник. Запроданец он, антихрист!»
В третьей группе уже кричали: «Одностайно, однодушно! Да сейчас же! На Бруховецкого! Раду, раду созвать! Что ж, что батька нема – и с дядьком раду отбудем».
Сирко подвигался медленно вперед, объезжая осторожно лежавших во многих местах неподвижно и отчаянно храпевших запорожцев.
Мазепа изумлялся, как это их не давила бушевавшая, и метавшаяся во все стороны толпа. Давно еще, служа у короля, он приезжал на Запорожье с каким-то посольством. Но тогда Сечь не произвела на него такого впечатления, как теперь, быть может, тогда вышло более тихое время, или его самого, воспитанного в вольных правах казачьих, не поражала картин на запорожской воли, но теперь, после придворного изысканного этикета, после эпического спокойствия на хуторе, это бушующее море голов показалось ему каким-то странным разъяренным зверем, грозно кричащим тысячью голосов.
Эти бронзовые, загорелые лица, дышащие дикой удалью и отвагой, эти гигантские, мускулистые тела – все это представляло из себя действительно такую необоримую силу, к торой, казалось, не могло ничто противостоять.
Мазепа видел и пышные разодетые войска французского короля, и строго вымуштрованных германских гигантских солдат, но подобных закаленных воинов – он не встречал нигде и никогда! И, однако, сила их зависела, видимо, не от одних мускулов и умения владеть оружием, – здесь было еще что-то невидимое, но бесконечно сильное, придавшее такую геройскую отвагу всем этим железным людям.
Вся площадь кипела, – но это не было собрание возмущенных солдат. Нет! Здесь каждый из этих возмутившихся казаков мог через минуту стать кошевым атаманом и по своему умственному уровню он не оказался бы ниже занятого им положения.
Каждый из этих казаков принимал активное участие всей политической жизни своего края, он знал и понимал интересы и считал их своими личными, более дорогими, чем интересы родной семьи. Отсюда происходил и тот беззаветный фанатический патриотизм, которым жил и дышал каждый запорожец. Этим объяснялось и то единодушное, горячее воодушевление, которое охватило все Запорожье при известии об Андрусовском договоре.
XX
Мазепа с интересом присматривался к тысячной толпе героев и теперь ему становилось понятно, почему перед этими львами, готовыми полечь каждое мгновенье за свою отчизну, бежали и татарские полчища, и пышные польские войска.
– Да, потерять это пышное гнездо – значит потерять всю Украину, – думалось ему. Но между тем в этой толпе было и что-то страшное: видно было, что страсти запорожцев были разогреты до последней степени, и при обычной способности толпы поддаваться одному какому-нибудь увлекательному слову – вся эта масса могла броситься очертя голову и наделать непоправимых бед. И при одной этой мысли Мазепе становилось жутко.
– О, если б придать этому Запорожью более стройный порядок, если бы употребить разумно его силы, – чего бы тогда можно было достигнуть! Быть может, не нужно было бы и «побратымив» по всему свету искать! – думал он, внимательно присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходившему вокруг него.
Наконец, некоторые казаки узнали Сирко.
– Батько, батько кошевой тут! Наши головы! – кланялись они низко, расчищая с помощью кулаков ему дорогу.
– Набок! Батьку дорогу! – кричали другие; толкая в плечи прохожих. – Позаливали себе очи и ничего не видят! Эй, пьяницы, набок!
– Сам ты набок! – отбранивались те. – Или я сверну тебе шею набок! Я казак вольный, – иду, куда ноги ступают, ни ты, ни сам я – им не указ!
Но вскоре по всей площади разлетелась весть, что кошевой, батько, славный лыцарь Сирко вернулся. Крики и брань стали стихать; обрадованные запорожцы, любившие беззаветно своего предводителя, побежали ему навстречу и окружили стеной наших путников, подъезжавших уже ко второму проходу.
– Здоров будь, батько! Витаем пана кошевого! Век долгий нашему «велетню»! Слава, слава! – понеслись со всех сторон радостные приветствия и слились в какой-то порывистый гул.
Шапки, шлыки полетели вверх, там и сям раздались пистолетные и мушкетные выстрелы; кто-то бросился даже к «гарматам», но «гармаши» остановили усердных: выстрелами из орудий созывалась великая Сичевая рада, а это могло делаться лишь по приказанию кошевого.
– Здорово, здорово, детки! – снял Сирко шапку и поклонился на все стороны. – Как поживаете? Что нового? Чего вы заволновались, с радости или с горя?
– Да какое, батьку, с радости? – отозвался один сивоусый запорожец с тремя перекрестными шрамами на лице, – скорее с горя.
– С горя, с горя, – подхватили соседи, и это слово пошло перекатываться по майдану.
– Да с какого горя? Горилки не хватило, или рыба перевелась? – попробовал еще подшутить кошевой.
– Что горилка! Не о том, батьку, речь! – возразил строго старик. – Разве это не горе, что Украину разорвали надвое? Разве это не горе, что одну половину отдали на съедение ляхам, а другую трощит Бруховецкий? Разве это не горе, что над Запорожьем поставили чуть ли не четверо панов, а трое из них точат зубы, чтоб проглотить нас живьем? За что же мы с казаками и несчастным поспольством лили кровь и гибли, за что? За права свои, за вольности, за веру, за братьев, а теперь выходит, что за все это нас бить в три кнута?
– Не бывать тому, не бывать! – раздался грозный возглас тысячной толпы, и эхо повторило этот чудовищный крик.
– Да слушайте, панове, вас одурили, – заговорил взволнованным голосом кошевой, думая хоть немного успокоить толпу, но ему не дали дальше говорить.
– Как одурили? Кто одурил? – закричали кругом. – Вот послушал бы, что говорил посол, пока не заткнули ему рта, да вон и Андрусовский договор, смотри сам!
Сотни рук поднялись в воздух по тому направлению, где белела прибитая высоко на доске грамота. Толпа слегка распахнулась.
– Читай, читай! – подтолкнули казаки одного молодого запорожца.
Но Сирко не нужен был чтец; зоркий взгляд его впился в бумагу и сразу же упал на место, касающееся Запорожской Сечи: «И вниз Днепра, что именуются Запороги, и тамошние казаки, в каких они там оборонах, островах и поселениях своих живут, имеют быть в послушании, под обороною, и под высокою рукою обоих великих государей наших, на общую их службу», – прочел он и последнее сомнение исчезло. Он хотел дочитать до конца всю бумагу, но кругом стоял такой крик, что сделать это было решительно невозможно.
– А что, теперь сам «упевнывся»! – кричали кругом голоса
– Вот какая нам «дяка»! Да и гетман Дорошенко нам в универсале пишет, что теперь, мол, и Москва, и поляки нам вороги!
– Вороги! – подхватила снова с грозным криком вся толпа!
– А все через кого? Через Ивашку Бруховецкого! – раздался в это время чей-то зычный голос. – Через него вся беда сталась! Это он ездил в Москву, он навел к нам господ ратных людей, он «намовыв» царя половину Украины ляхам отдать!
– Он, он! Антихрист! – закричали отовсюду.
Толпа вся ожила: гневная, бушующая, она искала и жаждала мести – и вот ненавистная жертва была отыскана.
– Так смерть же зраднику! Веди нас зараз на Ивашку, батько! Веди! Веди! – загремела вся площадь, и все голоса смешались в одном ужасном и грозном реве. – Смерть «зрадныку»! Смерть!
Сирко окаменел; по этому крику он почувствовал, что толпа возбуждена и наэлектризована до последней крайности, а при таких обстоятельствах настроение ее могло перейти в всесокрушающую бурю.
– Стойте, панове казаки, славные лыцари-запорожцы, – заговорил он громко, высоко подымая над головой шапку. – Про такие дела негоже говорить на прысиччи, есть на то сичевой «майдан». Не будем же ломать наших святых «звычаив», этим мы обидели б нашу Сичь-маты и нашего Луга-батька, а будем чинить все по нашему закону и по старине. Дайте же кошевому вашему час, прочитать с вашим писарем эти универсалы, просмотреть толком Андрусовские «пакты» и выслушать гетманских послов, и потом уже мы, «обмиркувавшысь» с нашим атаманьем, велим ударить в «склык» да в гармату и созвать великую раду. А на чем рада порешит, так тому и быть, тому и я слуга!
– Правда, правда, пане кошевой! – зашумели радостно передовые ряды, удовлетворенные атаманским решеньем. – Разумное твое слово! За твою голову костьми ляжем!
– Век долгий кошевому батьку! Слава! Вот рассудил, как Соломон! Эх, голова! – вспыхивали то там, то сям похвалы и сливались в общий восторженный гул.
Сирко только кланялся на все стороны, а толпа, воодушевленная уже не местью, а более высоким патриотическим чувством, несла своего батька почти на плечах. Мазепа с остальными казаками был совершенно оттерт и остался пока на присечьи.
Настроение толпы сразу изменилось. Оставшиеся на присечьи уже с успокоенными лицами стали рассуждать о событиях, толковать о разных способах спасения отчизны, а больше всего хвалить разум своего кошевого и его мудрое слово. Каждый уже чувствовал себя не рабом пагубной для него силы, а полноправным господином и законодателем.
– Что ж, братцы, при нашем батьке тужить нам нечего, – говорил авторитетно седой запорожец с почетными шрамами на лице, – «обмиркуемося» и все с ним рассудим, кого бить, а за кого стоять. Правду говорит пословица: вперед батька и в пекло не сунься!
Между тем толпа совершенно оттиснула Мазепу и приблизила его к той группе, где стояли Палий и Дорошенковы послы. Мазепа придержал коня и стал прислушиваться: здесь все толковали о единой Украине и о гетмане Дорошенко.
– Так, так, – говорил один почтенный казак с совершенно ястребиным носом, – Дорошенко пусть над всей Украиной гетманует: он казак старый и поле знает.
– Го-го! Боятся его ляхи, – такого премудрого волка не то что в Украине, а и во всей Польше нет!
– Еще бы, он и с деда, и с прадеда гетман!
– Дед его Кафу «внивець обернув»! – сыпались отовсюду одобрительные замечания.
– Так, так, – продолжал старший казак, – за Дорошенко, да за едность нашу и будем стоять, а если вздумают к нам польские послы навернуться, так мы им покажем вот что! – поднял он кверху кукиш.
– А может, что и получше! – послышались в толпе веселые голоса.
– Не надо нам теперь никого, опричь гетмана Дорошенка. Ни москаля, ни ляха! Сами себе будем пановать! – кричали уже кругом.
– Только и басурмана не надо! Не хотим с ним знаться! Пусть себе Петро про них и не думает! Мы за ним всюду, куда он ни поведет, только с басурманами нам каши не варить! – раздались возгласы с противоположной стороны.
– Да слушайте, панове, чего вы дарма горло дерете? – закричал, надрываясь от натуги, Палий, – ведь гетман только за помощью их зовет, а не в ярмо к ним идет. А чего нам бояться татарской помощи? Не с татарами ль гетман Богдан вызволил нас из лядской неволи?
– А не татаре ль «зрадылы» его под Берестечком и тем «запровадылы» всех нас в погибель! – ответил ему чей-то зычный голос из середины толпы.
– Не они ли грабят нас не хуже ляхов! В полон уводят и жен, и детей наших! С татарином дружи, а аркан наготове держи! – посыпались отовсюду гневные восклицания и, наконец, перешли в общий возглас: – Не хотим басурман!
Напрасно Палий напрягал весь свой голос, его не было слышно за общим криком. Казалось, еще минута, и готова была бы закипеть жестокая свалка.
Мазепа подумал, что теперь настало время сказать ему свое слово.
– Панове товарыство низовое, а дозвольте мне одно слово сказать! – произнес он громко, слегка выступая вперед конем.
Ближайшие ряды отступили перед лошадью, все невольно оглянулись на этого верхового незнакомца, свалившегося им словно с неба на головы. Мазепа воспользовался этим мгновеньем молчания и продолжал дальше.
– А помните ли вы, панове, старую казацкую поговорку: «Бога памятуй, а и черта не забывай». То-то и спрашиваю вас, когда человек тонет, а кругом не за что ухватиться, только за острую косу, будет ли он размышлять в ту минуту о том, что урежет себе руку, или будет думать только о том, как бы свою душу спасти. Ведь рана-то на руке заживет, а душа погибнет, ее не воротишь.
– Хе, хе! Вот что придумал, – послышалось несколько голосов, – да когда тонешь, ухватишься не то что за косу, а и за шило.
– Так разве же мы теперь не тонем, панове? – продолжал Мазепа. – Разве уж не идет ко дну и наша родина, и наша едность, и наша воля? Татаре разоряют и грабят, – правда. Но от грабежа можно оправиться, деньги – дело наживное, говорит нам пословица, а если мы теперь упустим время и не злучим нашу отчизну, то уж не спасем ее никогда!
Мазепа всегда говорил хорошо и увлекательно, но теперь, возбужденный сам этим известием, этой сценой и целой толпой слушателей, с сердцем, полным горечи и тоски за участь родины, он говорил необычайно сильно и красиво. Сидя на лошади, он был весь виден казакам, и его голос, его слова, его прекрасная наружность и горящие воодушевлением глаза производили сильное впечатление на окружающих.
Неизвестность же его появления возбуждала еще больший интерес к его личности. Все слушали его с большим вниманием.
– Так не будем же спорить, панове, брать ли в союзники басурман или нет! Будем дбать прежде всего про едность отчизны. Лучше тело свое погубить, да душу спасти – говорит нам святое письмо. А не наши ли души ответят перед Господом Богом, когда мы «занапастым» свою отчизну под лядским ярмом. Ведь нет у нее ни батька, ни матери, нам поручил Господь за нее и ответ давать!
– Ну и врезал! Вот так сказал! Ей-Богу, правда! – посыпались отовсюду восторженные возгласы. – Да откуда ты взялся, бей тебя нечистая сила? С неба свалился, что ли?
Некоторые же седоусые запорожцы, растроганные словами Мазепы и высокою миссией, которую он приписывал им всем, даже усиленно заморгали глазами.
Толпа окружила Мазепу; Палий тоже подошел к нему и вдруг вскрикнул радостно:
– Да не тебя ли, пане-брате, я видел на хуторе у дида Сыча?
– Я там был и оттуда еду, – ответил Мазепа, всматриваясь пристально в лицо совершенно незнакомого ему казака. – Только пана запорожца я не припомню.
– Еще бы, – засмеялся Палий. – Когда я туда приезжал, так пан был бездыханен, трудно ему было что-либо помнить. А ведь это я пана от коня отвязал и вместе с Богуном внес в хату… И вот, благодаря Бога, вижу живым и здоровым, и нашим, как я и говорил.
– Спасибо за лыцарский «вчынок» незнакомый мой друже, – протянул ему тронутый Мазепа обе руки, и соскочил с коня. – Я Мазепа, из русской шляхты герба князей Курцевичей, и душой казак. А как же мне величать моего молодого спасителя?
– Семеном Палием, – заключил в объятия Мазепу казак и почувствовал в то же мгновение какое-то неприятное чувство, шевельнувшееся холодной змеей в его груди. Это, верно, от того, что он назвал себя шляхтичем. «На польский лад, паном», – подумал Палий и постарался задавить это неприятное впечатление, но оно упорно стояло в его сердце. Между тем, слова Мазепы снова разогрели толпу.
– Правда! Правда, казаче! – закричали кругом. – Верно ты рассудил. Пусть себе там гетман Дорошенко обирает нам какого захочет побратима, а мы тоже дремать не будем! Гайда на Кодак! Повыгоним оттуда всех ратных людей. Да и ты с нами, если ты и саблей умеешь так орудовать, как языком, будешь у нас головой!
– На Кодак! На Кодак! – подхватили кругом десятки и сотни голосов.